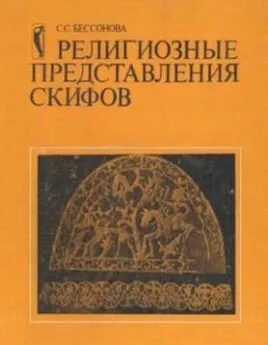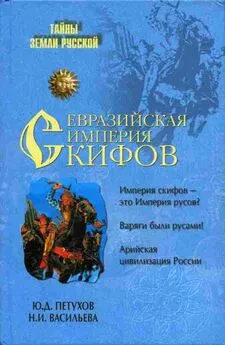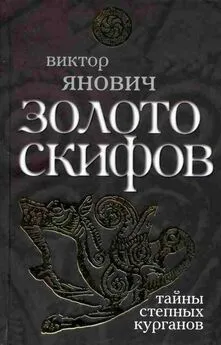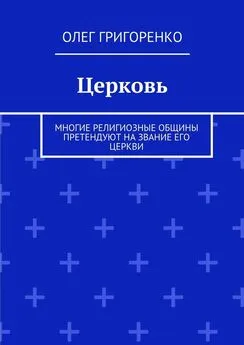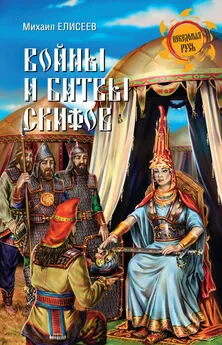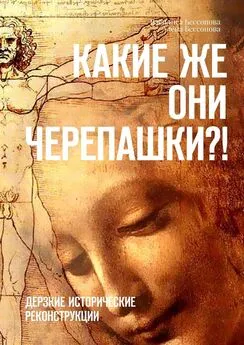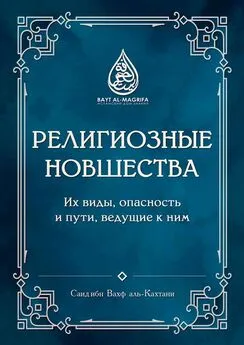Светлана Бессонова - Религиозные представления скифов
- Название:Религиозные представления скифов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наукова думка
- Год:1983
- Город:Киев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Бессонова - Религиозные представления скифов краткое содержание
Для археологов, историков, преподавателей, студентов исторических факультетов, музейных работников.
Религиозные представления скифов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вопрос об отношении Табити к индоиранским культам огня смыкается фактически с вопросом о ее положении в скифской религии. Высокое положение огня в системе скифских религиозных представлений («почитают более всего») объясняется, таким образом, почитанием его как священной стихии, общим для всех индоиранских (индоевропейских вообще) народов.
Но ни в одной из индоевропейских религий, в том числе в ведической и в древнеиранской, божества огня не были главами пантеонов, верховными божествами. Сближению скифской Табити с ведическим Агни и иранским Атаром мешает и то обстоятельство, что Табити — женское божество. Огонь, как активное творческое начало, в отличие от женского начала земли, как правило, отождествлялся с мужским началом. В иранских источниках встречается отождествление огня со спермой [389, р. 59–65], а в ведийском ритуале возжигание огня на алтаре рассматривалось как соитие, где женщине соответствовал алтарь, а мужчине — огонь [334, с. 39]. В тех же случаях, когда божества огня предстают в женском облике, это не «чистые» божества огня, но, подобно Гестии и Весте, тесно связаны с очагом и всем комплексом представлений, прежде всего с культом предков. Характерно, что в итоге философских спекуляций в античной философии прочно утвердилось отождествление двух главных порождающих начал — Огня и Земли [422, р. 385 sq.] [35] В античном мире теософские концепции «мировой Гестии», огня как основной космической силы получают законченное выражение лишь у философов эллинистическо-римского периода. Не последнюю роль сыграло при этом представление об очаге как сакральном центре [454, S. 2643–2644]. Что касается времен Геродота и более раннего периода, то имеются сведения лишь об элементах физической доктрины, универсального присутствия огня (т. е. как основы жизненной силы) в сочинениях натурфилософов, появившихся, очевидно, под иранским влиянием [399, р. 203].
. Следует вспомнить богиню Анахиту в иранской религии, тесная связь которой с огненной стихией вызвала к жизни гипотезу о ней как о древней богине огня [432, р. 353–355]. Теория эта не получила признания, Анахита считается главным образом богиней плодородных вод. В хеттской религии центральной фигурой была солнечная богиня Хебат, или «богиня из Аринны», называвшаяся в надписях «царицей земли хеттов, неба и земли, госпожой царей и цариц» [429, р. 131]. Это божество, однако, считается разновидностью восточной богини Иштар, т. е. Богини-матери.
Таким образом, сущность скифской Гестии не проясняется полностью ни при сравнении с индоиранскими богами (разница полов), ни с божествами типа Гестии и Весты (положение в пантеоне) или Аринны (имя скифской богини и наличие в пантеоне Аргимпасы, более близкого аналога божеств типа Аринны).
Обратимся снова к анализу сведений Геродота о культе Табити и к археологическим свидетельствам о почитании огня скифами.
Скифам, как и другим индоиранцам, были свойственны представления об огне как возрождающей и очищающей стихии, судя по использованию огня в погребальном ритуале VII–V вв. до н. э. (частичное сожжение погребального сооружения). Более отчетливо культ огня прослеживается в погребальном ритуале ранних сакских [191] и савроматских племен [299, с. 251–253; 301], а также у племен Лесостепной Скифии. У степных скифов VII–V вв. до н. э. частичное сожжение погребальных сооружений встречается очень редко [238, с. 5], что, очевидно, служит признаком погребения лиц высокого социального ранга. Происходит как бы «затухание» этого древнего индоиранского обычая в направлении с востока на запад его ареала. В скифском погребальном ритуале IV в. до н. э. следы огня встречаются крайне редко, в степи сожжений нет вообще. Чаще его символами служили комочки красной, желтой и белой красок, очажные щипцы. Но и эти находки немногочисленны. Более отчетливо прослеживаются следы солярного культа: кольцевые ровики и каменные круги, находки колес.
Скифские святилища огня неизвестны. Следы почитания огня очага или алтаря обнаружены на Каменском городище [95, с. 63], а также на поселениях скифского времени в Лесостепи [366 с. 194–195; 367, с. 205–233].
В рассказе Геродота (IV, 69) о казни энареев огонь выступает как орудие ордалий, божьего суда, что находит аналогии в иранском мире [399, р. 200]. Судить же о том, насколько у скифов была развита огненная космология и как она соотносилась с аналогичными представлениями народов Ригведы и Авесты, не представляется возможным.
Из сведений Геродота о культе Табити можно сделать вывод лишь о некоторых общественных его проявлениях. Прежде всего, необходимо остановиться на связи Табити с культом очага — насколько было значительным его социальное содержание? Иными словами, можно ли главенствующую роль Табити выводить из ее связи с царским очагом, как это делает большинство исследователей? Наиболее аргументированно эта точка зрения изложена М. И. Артамоновым [31, с. 58]. Если обратиться к античным аналогам, то выясняется, что социальный аспект был довольно отчетливо выражен в культе Гестии, как в архаический период, так и в классическое и эллинистическое время.
Семья была моделью и основой греческой государственной организации [445, р. 75], что определило представление о κοινηεστια — символе единства Эллады как социального и политического организма [454, S. 2630; 417]. В период синойкизма Тезея прекращение существования огней всех пританеев, кроме афинского, символизировало государственное единство Аттики (Thycyd., 11,75; Plut, Thes., 24). Иное дело, что Эллада почти не знала, исключая краткие периоды иноземного господства, политического единства. Более видную, по сравнению с культом Гестии, роль в общественной жизни играл культ римской Весты, что объясняется, очевидно, стойкостью семейно-родовых культов в римской общине, которая вела свое происхождение от родовых союзов [325, с. 413].
Огоиь Гестии в афинском пританее и очаг Весты в Риме считались преемниками древнего царского очага, храм Весты находился рядом с царским дворцом [412, v.5, р. 347–350; 413, р. 200–206]. В древнехеттских ритуальных текстах о культе огня, имевшего индоевропейскую основу, упоминаются поклонения обожествленному Трону и Очагу, причем поддержание огня в очаге знаменует благополучие страны и связано с сохранением родовой и государственной традиций, т. е. с соблюдением завещания царя [134, с. 266–268]. Но несомненна их теснейшая связь с личностью царя, а через него — с представлениями о благополучии всего народа. Это характерная черта комплекса сакральных царей или культа вождей, в котором царь — физический носитель безопасности и благополучия всего народа, и в первую очередь плодородия земли.
Связь Табити-Гестии с царским очагом и личностью царя ясно проступает в рассказе Геродота о клятвах «царскими гестиями» (Herod., IV, 68). Нет достаточных оснований видеть в «царских гестиях» священные золотые предметы, упавшие с неба [127, с. 33], а тем более воплощение самой богини [272, с. 106–109].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: