Николай Пашкин - Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438)
- Название:Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Уральского университета
- Год:2007
- Город:Екатеринбург
- ISBN:5-7996-0265-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Пашкин - Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438) краткое содержание
Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подводя итог, необходимо указать на то, что контакты византийского императора с правителями Арагона носили явно дружественный характер, и сам Мануил II не раз подчеркивал это. Оттого их результаты могут показаться более чем скромными. Заверения в дружбе, подкрепленные небольшими финансовыми пожертвованиями со стороны Арагона, — вот, пожалуй, и все, что можно отнести на их счет.
Анализ отношений Византии с Венецией, Венгрией и Арагоном позволяет сделать главный вывод: европейские государства не сумели использовать шансы, появившиеся после битвы при Анкаре в 1402 г. Несмотря на дипломатические усилия империи, так и не удалось создать даже подобия антитурецкого альянса, способного поставить заслон возрождению османской державы и ее наступательного потенциала. С середины 20-х гг. XV в. острота турецкого вопроса резко усиливается. В это же время происходит существенная корректировка внешнеполитических ориентиров Византийского государства.
2. Церковная уния как средство византийской дипломатии
2.1. Византийская внешняя политика в поисках новой парадигмы (1410–1431)
Период, продолжавшийся примерно два десятка лет после битвы при Анкаре, условно можно назвать периодом светской дипломатии в отношениях Византии с Западом. Эти отношения почти не затрагивали такой традиционный и непростой вопрос, как церковная уния. Эпизодические контакты на этой почве, как будет показано далее, не были строго нацелены на постановку и поиск решения данной проблемы. На протяжении 20-х гг. XV в. ситуация постепенно менялась. Политические контакты с латинским миром все больше переходили в церковно-религиозную плоскость. Однако должно было пройти какое-то время (до 30-х гг.), прежде чем уния стала доминирующей задачей византийской внешней политики.
2.1.1. К постановке вопроса
В истории политических взаимоотношений Византии и Запада значительную роль играл церковный вопрос. После того как в 1054 г. раскол христианской церкви стал свершившимся и необратимым фактом, на Востоке и на Западе время от времени раздавались голоса в пользу объединения двух церквей. История раскола была историей попыток его преодоления. Лионская уния, заключенная в 1274 г., стала первым пробным шагом. Ее провал на долгое время охладил стремление сторон к поискам компромисса. Однако со второй половины XIV в. в византийском обществе наблюдается заметное усиление прозападной ориентации. Латинофильские настроения постепенно охватывают часть интеллектуальной элиты империи [127] См.: Поляковская М. А. Димитрий Кидонис и Запад (60-е гг. XIV в.) // АДСВ. 1980. Вып. 16. С. 46.
. Одновременно этот вопрос занял прочное место во внешней политике Константинополя.
Проблема церковной унии, ее актуализация в разные периоды всегда имела под собой политическую подоплеку. «Идея унии была, по сути дела, идеологической вуалью, прикрывавшей развитие политических связей Византии как с римским папой, так и с западными странами в целом» [128] Поляковская М. А., Медведев И. П. Развитие политических идей в поздней Византии // Культура Византии: XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 276.
. Не секрет, что Лионская уния являлась, по существу, выражением временного альянса между империей и папством, призванным защитить государство первых Палеологов от агрессивных поползновений западных держав. В XIV–XV вв. эта проблема подогревалась стойким убеждением многих византийских государственных деятелей и интеллектуалов в том, что только военная помощь Запада даст империи дополнительную возможность противостоять турецкой экспансии.
Религиозная проблематика в этой ситуации приобретала ярко выраженную политическую окраску. Это справедливо и по отношению к Западу, так как средневековое папство обладало всеми чертами политического института. Одним словом, переговоры о церковной унии носили не религиозный, а ярко выраженный политический характер, поэтому инициатива в этом направлении всегда проистекала не от патриарха, а от императора. Когда он обращался к папе, то видел в нем не столько наследника св. Петра, сколько сюзерена по отношению к западным государствам [129] См.: Viller М. La Question de ll'unіоn des églises entre grecs et latins depuis le concile de Lyon jusque’ à celui de Florence (1274–1438) // RHE. 1921. T. 17. P. 280.
. В папе греки могли видеть единственную интегрирующую силу в европейском сообществе наций, хотя реальное положение вещей в XV в. было уже существенно иным.
Чтобы приблизиться к пониманию особенностей отношений Византии и Запада в этой области, необходимо вкратце остановиться на некоторых ее аспектах. Прежде всего следует установить, каким образом стороны представляли себе пути решения столь сложной задачи, как воссоединение церквей. Византийцы и латиняне были едины во мнении: христианская церковь — единый вселенский институт и осознавали раскол как противоестественное и трагическое явление. Однако их взгляды относительно природы и сущности этого единства расходились. На представления греков сильное влияние оказывали категории имперского мышления. Они проистекали из древней ойкуменистической теории, которая существовала на протяжении всей византийской истории [130] См.: Медведев И. Я. Империя и суверенитет в Средние века (на примере истории Византии и некоторых сопредельных государств) // Проблемы истории международных отношений: Сб. ст. памяти академика Е. В. Тарле. Л., 1972. С. 412–424; Dieten van J.-L. Politische Ideologic und Niedergang in Byzanz der Palaiologen // ZHF. 1979. Bd. 1, S. 1–24.
и согласно которой власть византийского императора теоретически распространялась на все христианское мировое сообщество, вне зависимости от того, как далеко простирались собственно государственные границы империи. Их несоответствие границам «ойкумены» воспринималось как факт противоестественный и преходящий. В поздневизантийский период эта доктрина уже не имела ничего общего с исторической реальностью, но по-прежнему была в официальном употреблении. Более того, в условиях сокращения сферы распространения императорской власти особый интерес к ней проявила византийская церковь, взяв ее под свою защиту.
Одним из элементов этого имперского представления о христианском мире являлась так называемая теория пентархии [131] Cм.: Dvomik F. Byzanz und der romische Primat. Stuttgart, 1966. S. 115–119. Об отношениях восточных патриархатов и римского престола см. также: Vnes W. Rom und die Patriarchate des Ostens. Freiburg; München, 1963.
. Она предполагала, что вселенская церковь возглавляется пятью патриархами — Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. Корни этой системы уходят в IV в. Именно она легла в основу византийской концепции вселенского собора, на котором требовалось обязательное присутствие всех патриархов либо их полномочных представителей, даже после того как три восточных патриархата утратили реальное значение в жизни церкви [132] Подробнее о византийской концепции вселенского собора см.: SiebenJ. Н. Griechische Konzilsidce zur Zcit des Florentinums // ThPh. 1995. Bd. 65. S. 184–215.
. Вселенский собор, в свою очередь, был для византийцев главным и непременным условием, при котором вообще могла идти речь о восстановлении единства христианской церкви. Он был призван гарантировать византийской церкви равноправное положение по отношению к папскому престолу. Примат последнего понимался ими исключительно как примат чести, а не юрисдикции.
Интервал:
Закладка:
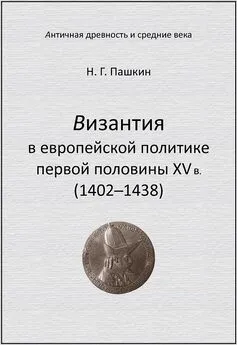





![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века. Том 3]](/books/1086208/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)


