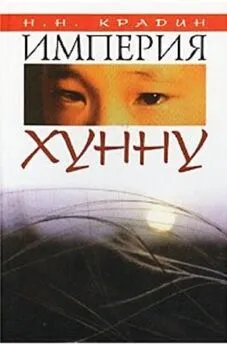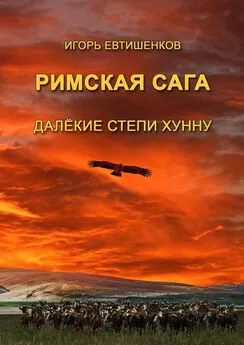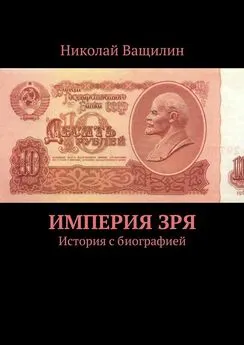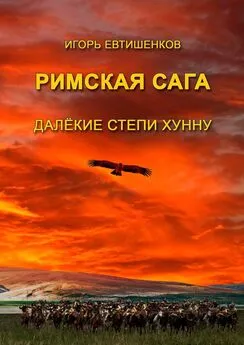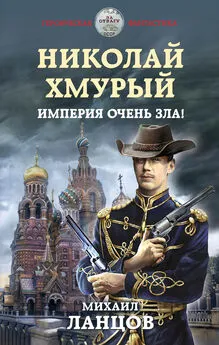Николой Крадин - Империя Хунну
- Название:Империя Хунну
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-94010-124-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николой Крадин - Империя Хунну краткое содержание
Книга предназначена для историков, археологов и этнологов-антропологов. Благодаря ясному языку и увлекательному стилю изложения она привлечет внимание широких кругов читателей, а также всех, интересующихся историей древних цивилизаций.
Империя Хунну - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Какое место занимает номадизм в рамках многолинейных (нелинейных) теорий Всемирной истории? Сложные, послепервобытные общества номадов — степные империи и «квазиимперские» завоевательные политии номадов — принципиально отличаются от всех типов доиндустриальных обществ: восточных деспотий, античных городов-государств и империй, феодальных королевств и абсолютистских государств. Это дало основание предположить, что для эпохи расцвета номадизма (с середины I тыс. н. э. до середины II тыс. н. э.) был характерен самостоятельный вариант социальной эволюции. Основой данной модели являлся экзополитарный, или ксенократический, способ производства [990] Крадин 1990-2000ж; Kradin 1993–2000.
.
Государственные функции в данной ситуации (точнее, их карательно-репрессивную часть) выполняло само кочевое общество, завоевавшее или эксплуатировавшее на расстоянии оседло-городской социум. Номады выступали в данной ситуации как класс-этнос и специфическая, направленная вовне собственного общества ксенократическая (экзополитарная) политая, образно говоря, возвышающаяся в качестве паразитической «надстройки» над оседло-земледельческим «базисом». При этом кочевая элита выполняла функции высших звеньев военной и гражданской администрации, а простые скотоводы составляли костяк аппарата насилия (армии).
Социально-политическая организация ксенократических кочевых обществ приобрела ярко выраженный милитаристический характер (военно-демократические, военно-иерархические, военно-олигархические структуры, кочевые империи). В определенном направлении трансформировались социокультурные ценности общества. Среди номадов сложилось представление о большей престижности военных походов и грабительских набегов в сравнении с мирным трудом. Все это накладывало отпечаток на жизнь кочевников, послужило основой для формирования культов войны, воина-всадника, героизированных предков, нашедших, в свою очередь, отражение как в устном творчестве (героический эпос), так и в изобразительном искусстве (звериный стиль).
В последние десятилетия в отечественной науке много пишут о необходимости «синтеза» между стадиальными и цивилизационными подходами. В той форме, как это нередко предлагается, это принципиально невозможно. В то же время уже несколько десятилетий существует мощное теоретическое направление — мир-системный подход, в рамках которого был осуществлен методологический синтез между стадиалистским видением истории (от линиждных реципроктных минисистем к капиталистической «мир-системе», основанной на товарно-денежных отношениях) и видением истории как совокупности различных крупных локальных систем (в терминологии мир-системщиков «мир-империй», «мир-экономик»).
Согласно мир-системной теории главной единицей развития является не отдельная страна, а более крупная система, которая объединяла группы государств. В этой группе выделяются «центр» (ядро) и «периферия». Центры организовывают экономическое пространство системы, стягивают к себе финансовые и торговые потоки, выкачивают из периферии ресурсы. Э. Валлерстайн выделяет три «способа производства»: (1) реципроктно-линиджные мини-системы, основанные на реципрокации, (2) редистрибутивные мир-империи (в сущности, это и есть «цивилизации» по А. Тойнби), (3) капиталистическая мир-система (мир-экономика), основанная на товарно-денежных отношениях [991] WaUerstein 1984: 160ff.
.
С точки зрения логики теории Валлерстайна подавляющее большинство кочевых обществ должны быть отнесены к уровню минисистем, но не мир-империй, и это так. Действительно, большая часть кочевников-скотоводов не достигала уровня редистрибутивных обществ — вождеств разной степени сложности и среди них ксенократических квазимперских политий и кочевых империй. Другое дело, когда мы говорим о месте кочевничества в рамках периодизаций всемирной истории, нельзя закрывать глаза на то, какую роль кочевые империи сыграли в истории всех земледельческих цивилизаций и тем более в истории первой мир-системы.
Однако кочевые империи — это далеко не даннические «мир-империи» (исключая, может быть, Монгольский улус XIII–XIV вв.). Мир-империи, по Валлерстайну, существуют за счет дани и налогов с провинций и захваченных колоний, которые перераспределяются бюрократическим правительством. Отличительным их признаком является административная централизация, доминирование политики над экономикой [992] Wallerstein 1984: 160ff.
. В кочевых империях не существовало столь жесткой административной централизации, редистрибуция затрагивала только внешние источники доходов империи: военную добычу, дань, торговые пошлины и подарки. Наконец, кочевники никогда не являлись «центрами» международных экономических процессов. В то же самое время древние и средневековые кочевники не вписываются в модель «периферии». Скорее, это своеобразные «спутники» земледельческих цивилизаций (мир-империй), нечто отчасти подобное тому, что Э. Валлерстайн называет «полупериферией».
Понятие полупериферии в мир-системной теории было разработано главным образом для описания процессов в современной капиталистической мир-системе. Полупериферия эксплуатируется ядром, но и сама эксплуатирует периферию, а также является важным стабилизирующим элементом в мировом разделении труда. Однако Валлерстайн утверждает, что трехзвенная структура свойственна любой организации, между полярными элементами всегда существует промежуточное звено, которое обеспечивает гибкость и эластичность всей системе (центристские партии, «средний класс» и т. д.). В доиндустриальный период некоторые функции полупериферии могли выполнять торговые города-государства древности и средних веков (Финикия, Карфаген, Венеция и др.), милитаристические государства-«спутники», возникавшие рядом с высокоразвитым центром региона (Аккад и Шумер в Месопотамии, Спарта, Македония и Афины, Австразия и Нейстрия у франков) [993] Chaze-Dunn 1988.
, а также кочевые империи и квазиимперские политии номадов евразийских степей.
Империи номадов также являлись милитаристическими «двойниками» аграрных цивилизаций, так как зависели от поступаемой оттуда продукции. Однако номады выполняли важные посреднические функции между региональными «мир-империями». Подобно мореплавателям, они обеспечивали связь потоков товаров, финансов, технологической и культурной информации между островами оседлой экономики и урбанистической цивилизации.
Но было бы ошибкой считать кочевые империи классической полупериферией. Полупериферия эксплуатируется ядром, тогда как кочевые империи никогда не эксплуатировались аграрными цивилизациями. Всякое общество полупериферии стремится к технологическому и производственному росту. Подвижный образ жизни кочевников-скотоводов не давал возможности осуществлять значительные накопления (количество скота было ограничено продуктивностью пастбищ и сильно зависело от природных напастей), а степное общество было основано на «престижной» экономике. Вся добыча, как это было показано в пятой главе, раздавалась правителями степных империй племенным вождям и скотоводам, а также потреблялась на массовых праздниках. Номады были обречены оставаться вечным хинтерландом мировой истории. Только завоевание ядра давало возможность стать «центром». Но для этого нужно было перестать быть номадами. Великий советник Чингисхана и его сына Угэдэй-хана образованный киданин Елюй Чуцай понял это, сказав впоследствии последнему: «Хотя [вы] получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять [ею], сидя на коне» [994] Мункуев 1965: 19.
.
Интервал:
Закладка: