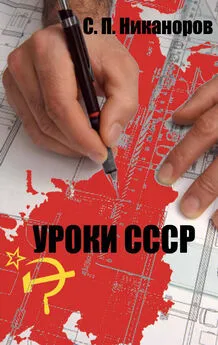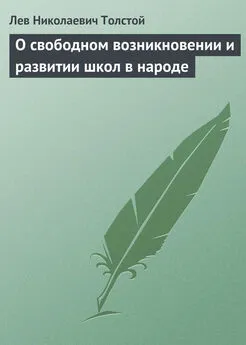Людвик Флек - Возникновение и развитие научного факта
- Название:Возникновение и развитие научного факта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7333-0018-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людвик Флек - Возникновение и развитие научного факта краткое содержание
Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI — Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF — Moscow).
Возникновение и развитие научного факта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С такой формальной точки зрения, исследователь свободен, когда речь идет о выборе некоторых характеристик в качестве исходных, но обязан вывести остальные характеристики, основываясь на этом выборе. Те, кто придерживается принципа экономии мышления как предпосылки исходного выбора, стоят на позиции Э. Маха [36].
Во-первых, сторонники подобного формализма либо вовсе не учитывают, либо слишком мало учитывают культурно-историческую обусловленность теоретико-познавательного выбора или упомянутого выше соглашения. В XVI веке не было возможности заменить мистико-этическое понятие сифилиса понятием, опирающимся на естествознание и теорию патогенеза. Единство стиля мышления, связывающего все или большинство понятий того времени, основано на их взаимовлиянии. Стиль мышления, можно сказать, детерминирует все эти понятия. Поэтому соглашения, с формальной точки зрения равно вероятные, в действительности очень редко понимаются как равноправные, не говоря уже о всевозможных утилитарных влияниях на эту трактовку.
Во-вторых, мы хотели бы установить особые исторические закономерности, которым подчинено развитие идей, некоторые общие явления, характерные для истории познания и бросающиеся в глаза каждому, кто изучает историю идей. Например, многие теории проходят через две стадии своего развития: классический период, в течение которого все находится в удивительном согласии, и затем второй, когда на первый план выходят исключения из общих законов. Очевидно также, что некоторые идеи появляются намного раньше, чем их рациональные обоснования, и независимо от них. Далее, пересечение нескольких линий развития мысли способно вызвать особые эффекты. Наконец, чем систематичнее разработана какая-то область знаний, чем она богаче деталями и чем теснее связана с другими областями, тем меньше различий во мнениях внутри нее.
Если общие культурно-исторические и специфически. е связи принимаются во внимание теорией познания, позиция конвенционализма заметно ослабевает. Свободный рациональный выбор уступает место названным специфическим обусловленностям. Тем не менее, всегда имеют место другие связи, обнаруживающиеся в содержании знания и неподдающиеся ни психологическому (будь то в смысле индивидуальной или коллективной психологии), ни историческому объяснению. По этой причине они и кажутся «реальными», «действительными» и «истинными». Назовем их пассивными, детерминированными связями, в отличие от остальных, которые назовем активными. В нашей истории понятия сифилиса соединение всех венерических болезней в одно общее понятие «кары за греховное сладострастие» было активным сопряжением (ассоциацией) явлений, объяснение которому дает история культуры. В отличие от него ограничение лечебной эффективности ртути, о котором шла речь выше («ртуть иногда не излечивает болезнь греховного сладострастия, а, напротив, ухудшает ее протекание»), является пассивной ассоциацией мыслительных актов. Понятно, что сама по себе пассивная ассоциация без понятия «болезни греховного сладострастия» даже не могла бы быть сформулирована; впрочем, и само это понятие содержит в себе не только активные, но и пассивные элементы содержания.
Помимо различения пассивных и активных ассоциаций и указания на необходимость их взаимосвязи, история развития понятия сифилиса указывает на ограниченность роли любого эксперимента по сравнению со всей совокупностью опыта в определенной области знаний, в которую включаются эксперименты, наблюдения, профессиональные навыки (умения) и трансформации понятий. Даже героический «experimentum cruris» [37], произведенный Хунтером, ничего не доказывает, ибо его результат может и должен быть оценен как случайность или ошибка. Сегодня ясно, что более полный опыт в области прививок заставил бы Хунтера пересмотреть свои взгляды.
Однако есть большое различие между экспериментом и так понимаемым опытом: если эксперимент можно понимать просто как попытку получить ответ на поставленный вопрос, то опыт следует понимать как весь комплекс интеллектуального взаимодействия между познающим субъектом, имеющимся у него знанием и тем, что еще предстоит познать. Приобретение физических и психических навыков, накопление определенного числа наблюдений и экспериментов, способность преобразования понятий, относятся к таким факторам познания, которые не контролируются формально-логическими правилами, и потому познавательный процесс не может быть интерпретирован чисто формально-логически.
Поэтому спекулятивная теория познания не имеет под собой оснований; ее нельзя вывести и из каких-либо отдельных примеров познавательных процессов. Перед гносеологом открывается широкая перспектива эмпирического исследования познавательной деятельности, обещающая множество открытий.
Возвращаясь к нашему предмету, в частности к дальнейшей истории понятия сифилиса, мы должны упомянуть еще о двух идеях, которые привели к современной трактовке этого понятия. Одной из них является понимание сифилиса как патогенного специфического заболевания (в широком смысле этого термина), вторая — это понимание сифилиса как особого этиологического объекта.
Патогенное понятие сифилиса или представление о механизме патологических ассоциаций возникло еще в самых ранних трактатах о сифилисе. Почти все они основывались на теории дискразии, науке о плохой, испорченной смеси гуморов. Эта наука, точнее этот набор пустых фраз (она вся состояла едва ли из десятка возможных комбинаций гуморов, которых было недостаточно, чтобы охватить все болезни), господствовала во всей медицине. Описание всех ее перипетий вывело бы нас за рамки настоящей работы, но следует подчеркнуть один важный аспект: из общей теории о смеси гуморов вытекает мысль об испорченности крови больного сифилисом.
Это « alteratio sanguinis» [изменение крови] было одним из излюбленных способов объяснения всех общих заболеваний [38]. Однако если по отношению к другим болезням этот способ со временем вышел из употребления и был забыт, то его роль в объяснении сифилиса лишь возрастала и обогащалась новым содержанием.
Вначале вникнем в содержание таких высказываний: «Forte cum ossa vel panniculi et nervi nutriantur sanguine melancholico, qui cum infectus sit a mala qualitate, non convenienter transmutatur in substantiam nutriti, hinc fit, ut superfluitates, plurimae multiplicentur, quae ibi stantes, sunt causa dolorum praedictorum» [39]. Так объясняются костные боли при сифилисе. Или: «Et sicut tempore febrium epidemialium, mala qualitas occulta existens in aere, respicit ipsum cor, spiritus et sanguinem corrumpendo» [40]. Или: «Sanguis [при сифилисе] a bono ad malum et praeter naturalem habitum convertitur» [41]. «Hie vero adapertis, uclus et crustas subesse perspicuo cernitur. Causa vero est sanguis abunde fervens et crassus, venenosa qualitate infectus» [42]. Или: «Neque hoc, vaide alienum esse constat in his qui Gallico malo laborant, quando per eius morbi initia, sanguis commaculetur contagione adhibita, absque putridinis, minima quidemm nota» [43]. Или: «Morbus Gallicus est passio oriens ab universale infectione in massa sanguinea» (Cataneus) [44]. Или: «Sanguis a naturali statu recendes immutatur» (Fallopio) [45].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: