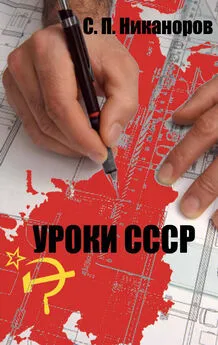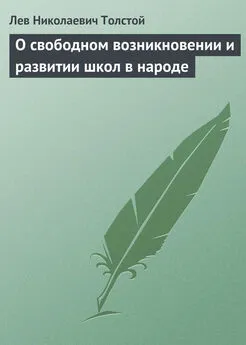Людвик Флек - Возникновение и развитие научного факта
- Название:Возникновение и развитие научного факта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7333-0018-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людвик Флек - Возникновение и развитие научного факта краткое содержание
Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI — Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF — Moscow).
Возникновение и развитие научного факта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Истина и вымысел или, лучше сказать, те характеристики, которые и сейчас признаются наукой, и те, которые отброшены ее развитием, здесь идут рука об руку. Обратим внимание на то, что обозначено на рисунке литерой S. Это «проток, через который беременная женщина выбрасывает семя, попавшее в нее во время полового акта»; никакого такого протока современная анатомия не знает, но здесь он нужен для того, чтобы имела место указанная аналогия. Анатомия того времени представляет его так, как того требует общепринятая теоретическая схема, — не обращая внимания на данные наблюдения, сколь бы достоверными они ни были.
Когда я отбирал эту иллюстрацию для данной работы, у меня появилось искушение противопоставить ей для сравнения «правильный» рисунок, который соответствует действительности. Просмотрев современные анатомические атласы и учебники по гинекологии, я нашел в них множество прекрасных иллюстраций, но среди них ни одной, которая соответствовала бы действительности; все они соответствующим образом препарированы, схематичны, почти символичны, все подогнаны под теорию, но не соответствуют природе. В учебнике по технике анатомирования я нашел даже фотографию, также соответственно стилизованную, с нанесенными стрелочками и линиями для удобства обучения. И я убедился, что не смогу осуществить свой замысел: показать рядом с устаревшим рисунком такой, который соответствует природе. Теорию можно сравнивать только с теорией. Конечно, современная наука основывается на несравненно более развитой технике исследования, на более широком опыте и более основательных теориях. Теперь уже никто не прибегает к сомнительной аналогии между половыми органами мужчины и женщины, нам известно гораздо больше их признаков, чем прежней науке. Но путь от анатомического стола к формулируемой теории все же остается крайне сложным и не прямым, а культурно опосредованным. Чем это яснее, тем в большей степени мы интересуемся такими исторически и психологически обусловленными связями идей, которые ведут нас к их авторам. В естественной науке, и в искусстве, и в жизни нет другого способа быть верным природе, кроме как быть верным культуре.
Любая попытка объявить какой-то конкретный подход единственно верным и правильным не может не быть ограниченной, поскольку она связана с определенным мыслительным коллективом. Стилевые особенности убеждений, как и технические средства, необходимые в каждом научном исследовании нельзя выразить чисто логически. Такая легитимация мнений возможна только тогда, когда она уже не нужна, т. е. в среде людей с одинаковой, соответствующей определенному стилю мышления организацией психики и более или менее одинаковым уровнем образования и профессиональней подготовки.
Беренгар (Berengar) так рассматривает старый спор о месте в человеческом теле, из которого берут начало вены: по Аристотелю, вены исходят из сердца, по Галену — из внутренностей. «Dico tamen […] quod venae non oriuntur пес a corde пес ab hepate, nisi improprie et metaphorice, et dico eas ita metaphorice oriri magis ab hepate quam a corde et in hoc magis teneo cum medicis, quam cum Arist.» [84]. Очевидно, что никакая логически корректная дискуссия здесь невозможна. Мы не признаем подобных «метафорических и фигуральных» источников вен, а признаем, только морфологические, филогенетические или эмбриологические «источники» кровеносных сосудов. Для нас организм — это не собрание метафор и символов, хотя мы не можем привести логические обоснования того, почему мы изменили стиль наших убеждений.
Здесь дело не просто в отсутствии «прямого контакта с природой» во время и благодаря анатомическим вскрытиям — ведь очень часто даже самые абсурдные утверждения сопровождались словами: «как показало вскрытие». Правду сказать, такой контакт действительно был слабым. Врачи, скорее, обращались к древним мнениям, чем к анатомическим вскрытиям, однако это было и основанием, и следствием старого стиля мышления. Тысячи раз цитировавшиеся мнения древних авторитетов для этих исследователей значили больше и были более определенными, чем вскрытия, эта «horridum officium» [85] [86].
В это время господствует особая «anatomia imaginabilis», после чего наступает черед чисто морфологической анатомии. Она не могла обойтись без филогенетических, онтогенетических и сравнительных символов [87]. Затем наступает время физиологической анатомии, которая использует физиологические символы и говорит о химических органах, эндокринной системе, ретикулярно-эндотелиальной системе, о системах, которым не соответствуют какие-либо точно определенные органы. Каждый из этих периодов использует в своем стиле совершенно ясные понятия, ибо их ясность — это их сочетаемость с другими присущими данному стилю понятиями. Несмотря на эту ясность, непосредственное общение сторонников различных стилей мышления невозможно [88]. Кто, например, мог бы перевести древнее анатомическое понятие «лоно» [Schoss] на язык современных определений? Где мог бы локализоваться этот мистический орган? Рассмотрев рисунок из научного труда XVII века, перейдем к рисунку XIX века. Когда Геккель (Hackel), этот романтический, вдохновенный рыцарь истины, хотел продемонстрировать свою идею о происхождении человека, он, не задумываясь, использовал одни и те же клише для изображения различных объектов (например, эмбрионов животных и человека), которые, согласно его теории, должны выглядеть одинаково. Его «История естественного творения» прямо-таки кишит тенденциозными, т. е. соответствующими его стилю, иллюстрациями. Стоит только взглянуть на умную морду старого шимпанзе или старой гориллы на рис. ХШ, чтобы сравнить их с ужасными физиономиями австралийских аборигенов или папуасов (рис. XIV).
Наконец, приведу особенно яркий пример тенденциозного отстаивания принятого убеждения. «Наверное, самой лучшей поддержкой теории наследования приобретенных признаков являются опыты Каммерера (Kammerer). Увлажняя клетки и применяя желтую подстилку в них, а также меняя другие общие условия содержания, он получил из пятнистых экземпляров Salamaridra maculosa полосатых. Этим искусственно выведенным зверькам он удалил яичники и пересадил им яичники пятнистых животных. Когда он случал таких животных с обычными пятнистыми саламандрами, их потомство рождалось с пятнами, расположенными в упорядоченные полоски. Был сделан вывод, что это искусственно измененные соматические клетки оказывали влияние на чужие половые клетки». Этот результат стал сенсацией, но затем обнаружилось, что опыты Каммерера были фальсифицированы (конец 1926 г.), и, когда подлог был обнаружен, исследователь покончил с собой» [89].
Если кто-то скажет — особенно имея в виду последний пример, — что все это искажения нормального хода познания, то я должен признать, что многие «самосбывающиеся мечты» действительно можно оценить именно так. Но как врач, я знаю, что нет резкой границы между нормальным и аномальным: аномальное — это часто лишь усиление нормального. Кроме того, ведь известно, что социальное воздействие как нормального, так и аномального часто бывает одинаковым. Если мотивы философии Ницше, например, были психопатологическими, то социально они действуют точно так же, как нормально обусловленные воззрения. Высказанная мысль относится к тем социальным силам, которые создают понятия и мыслительные навыки: она входит в связь с другими мыслями и совместно они уже определяют то, что «иначе и мыслить нельзя». Даже если какое-то отдельное высказывание оспаривается, мы формируем свое мышление в кругу той проблематики, которая возникает в результате этого спора, и сам этот спор приобретает, таким образом, социально значимую роль [90]. Это становится осязаемой реальностью, которая затем уже обусловливает все дальнейшие акты познания. Возникает самодостаточная гармоническая система, внутри которой уже нельзя найти логические истоки каких-то отдельных элементов. От каждого высказывания что-то остается: решение или проблема, даже если это проблема рациональности самой проблемы. Каждая формулировка проблемы уже содержит в себе половину ее решения. Каждое будущее исследование должно пройти по уже существующим мыслительным тропинкам. Будущее никогда не может полностью освободиться от прошлого, нормального или аномального, разве что отбросит его по правилам, которыми характеризуется его особая мыслительная система.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: