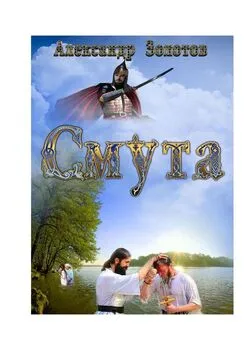Дмитрий Антонов - Смута в культуре Средневековой Руси
- Название:Смута в культуре Средневековой Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7281-1066-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Антонов - Смута в культуре Средневековой Руси краткое содержание
Смута в культуре Средневековой Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В конце первой части «Истории», подводя итог рассказам о бедствиях, Палицын выделяет три основных прегрешения, совершенных людьми. Если иные греховные поступки вызвали отдельные кары (опала и убийство Романовых — голод, жестокость русских людей — будущую жестокость поляков и др. Сказание, 105, 106), то перечисленные здесь грехи легли в основу всех описанных бедствий Смуты: «И не явно ли бысть нам праведное гневобыстрое наказание от Бога за вся таа сотвореннаа от нас злаа. Над сими же и за крестное целование первее Борису, потом же и за безумное крестное целование розстриге и Сендамирскому, потом же и благочестивому царю Василию Ивановичю Шуйскому, — и сиа преступихом и ни во что же положихом сие …» (Сказание, 125–6). Утверждение Голицына не однозначно: его можно понимать как упрек в нарушении присяги всем трем правителям Смуты [122](ср. добавление «во лжу» перед словами «первее Борису» в некоторых списках XVII в. [123]), однако текст самой «Истории» свидетельствует о греховности низложения только одного государя — Шуйского, в то время как смерть Годунова и Лжедмитрия не ставится в вину людям. Само целование креста перечисленным государям может осознаваться здесь как грех: фраза допускает такое прочтение, в Изначальной же редакции грехом оказывалось именно крестоцелование Лжедмитрию [124]. Возможно, наконец, что упрек относится как к случаям целования креста, так и к нарушениям присяги. Понять логику книжника возможно, лишь реконструировав причинно-следственные связи источника и раскрыв представления Палицына о событиях Смуты.
Обвинения Годунова и проблема «нелигитимности» царя
«История» начинается с рассказа о том, как после смерти Ивана Грозного при дворе возвысился царский шурин, «слуга» и правитель Борис Годунов [125]. Он и восшел на престол после смерти Федора — первый неприрожденный государь, не относящийся к династии Калитичей.
Подобно многим современникам (И. Хворостинину, дьяку Тимофееву, автору Хронографа 1617 г. и др.), Палицын признает достоинства Годунова: государственный ум, заботу о стране и о нуждающихся, однако, несмотря на это, в «Истории» (и в ряде иных произведений) положительные качества государя перечеркиваются многочисленными обвинениями. Неодобрение книжника вызывают, казалось бы, самые благие поступки царя, как то борьба с голодом 1601–1603 гг. Примечательно, что, осуждая богатых людей за греховную жадность во время неурожая, Палицын не менее ярко порицает и меры Годунова, направленные против голода. Подобная забота о страждущих происходила, по утверждению книжника, против правил Святых Отцов и великих царей: Годунов использовал средства опальных бояр, «хотя ползу сотворити питаемым от царьских его сокровищ, дабы на время оскудити неких, инехже препитати бедных »; называя это «милостыней от лихоимения», келарь характеризует действия правителя словами пророка Исаии: «Аще оубо едину сребреницу неправедну присовокупите ко имению вашему, ея же ради вся сокровища вашя огнем потреблю» (Сказание, 108, 105).
Общее негативное отношение Палицына к Борису очевидно. Оно характерно для источников, созданных после 1605 г., и логично соответствует как ситуации активной борьбы за престол в 1605–1613 гг., так и распространившейся после свержения Федора Годунова идее о том, что Борис — неприрожденный государь, не имевший прав на царство. По словам келаря, греховные опалы, творимые правителем, были подчинены одной идее: «да утвердит на престоле семя свое по себе» (Сказание, 104). Палицыну, безусловно, была хорошо известна аргументация как прогодуновских, так и антигодуновских памятников Смутного времени; на его описания могли оказать влияния многие идеи, распространенные в этот период.
Избрание на царство человека, не относившегося к богоизбранному роду Рюриковичей-Калитичей, традиционно возводимому к «обладателю вселенной» Августу, привело к кризису русской средневековой мифологемы власти. Убедить людей в закономерности подобной процедуры было не просто. В Утвержденные грамоты, составленные в 1598 г., включено проклятье каждому, не принявшему власть избранного государя: усомнившийся должен был быть извергнут из чина, отлучен от Церкви как раскольник и разоритель закона Божия, принять месть по церковным законам и быть проклятым в этом и будущем веке [126]. В 1605 г. проклятье было включено в крестоцеловальную запись Федору Годунову [127].
В ряде памятников Смуты традиционная мифологема власти получила весьма любопытное развитие: утверждалось, что любой правящий издревле род избран для правления Господом, а, следовательно, кризис, поразивший страну, можно преодолеть, венчав на царство представителя одной из европейских династий. Подобное решение упиралось в проблему вероисповедания: чтобы получить возможность занять русский трон, любой инославный государь безусловно должен был перейти в православие — первым или вторым чином [128]. Последний вопрос, как известно, получил особую актуальность именно в Смутное время, когда в мае 1606 г. на русский престол впервые венчалась женщина — католичка Марина Мнишек [129]. Уже в 1606 г. принятие вторым чином, соответствовавшее практике Константинопольского патриархата и одобренное собором Игнатия, не устраивало многих современников; после филаретовского собора 1620 г. на несколько десятилетий подобное стало невозможным [130]. Идея призвать в страну представителя иностранного правящего рода закономерно родилась из мифологемы власти Московского царства; характерно, что избранный на престол Годунов тщетно пытался заключить династический брак с прирожденными государями.
Описание, непосредственно связанное с этой проблемой, обнаруживается в «Новой повести о преславном Российском государстве» (около 1611 г.) [131]. Рассказывая о Великом посольстве 1610 г. (целью которого было призвание на престол сына Сигизмунда III Владислава Вазы), автор раскрывает очень интересные представления о королевских династиях, хранимых Богом несмотря на отход от правой веры. Послам необходимо привлечь в Россию наследника правящего рода: «от того гнилаго и нетвердаго, горкаго и криваго корении древа, и в застени стоящего, на него же, мню, праведному солнцу мало сияти, и совершенней благодати от него бывати, и аще будет по строю своему вмале на него и призирает, но искоренения его ожидает, токмо за величество рода, хотящую нама ветъвь от него отвратити, и водою и Духом Святым совершенно освятитися, и на высоком и преславном месте посадите, иже всех мест превыше и славнее своим изрядством во всей поднебесней Вышняго волением. И роста ибо той ветви и цвести во свете благоверия, и своея бы ей горести отбыта, и претворитесь бо в сладость, и всем людем подовати плод сладок <���…> и уже бы тому высокому и преславному месту не колебатися, занеже, за некое неисправление пред сотворившим вся, месту тому колебатися, и живущим на нем смущатися, и главами своими глубитися, и велицей крови литися» [132].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: