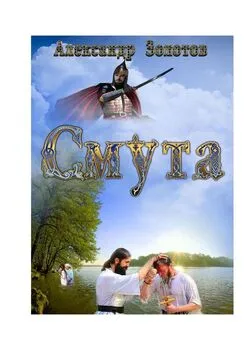Дмитрий Антонов - Смута в культуре Средневековой Руси
- Название:Смута в культуре Средневековой Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7281-1066-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Антонов - Смута в культуре Средневековой Руси краткое содержание
Смута в культуре Средневековой Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Попытка восстановить изначальную структуру произведения была предпринята О. А. Державиной при публикации «Временника» [94]. Я. Г. Солодкин детально изучил текст памятника, в результате чего появилась новая предположительная реконструкция его изначальной структуры с определенной перестановкой некоторых фрагментов по сравнению с опубликованным вариантом [95].
К источникам «Временника» относятся новейшие чудеса из Жития Никиты Переяславского, «Степенная книга», «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Повесть зело страшна о некоем юноше, облеченним во иноческий чин и паки поверже» и ряд других русских и переводных сочинений. Как показал Я. Г. Солодкин, можно предположить знакомство дьяка с целым рядом иных средневековых произведений (Домострой, Азбуковники, Жития и др.); в то же время использование Иваном Тимофеевым сочинений своих современников («Истории» Палицына, Нового летописца, утраченной «Истории о разорении русском» и др.) не подтверждается, как и предположения И. И. Полосина о причастности книжника к созданию Хронографа второй редакции [96].
Дьяку Ивану Тимофееву и его оригинальному сочинению посвящена многочисленная литература [97]; некоторые статьи будут рассмотрены ниже.
Издание «Временника» было выполнено в 13-м томе Русской Исторической библиотеки; в 1951 г. О. А. Державина осуществила академическое издание памятника, на которое мы будем опираться в дальнейшем [98].
Третий привлекаемый источник, «Словеса дней, и царей, и святителей московских…», был создан вскоре после Смуты ее современником, активным участником событий начала XVII в. Иван Андреевич Хворостинин, автор «Словес», происходил из рода ярославских князей, возвысившихся при Иване Грозном во времена опричнины, служил кравчим при дворе Лжедмитрия, а с приходом к власти Василия Шуйского был сослан. По-видимому, уже в 1610 г. князь вновь оказался на службе. В 1622 г. внимание властей привлекло его увлечение польской литературой: после возвращения в Россию патриарха Филарета и собора 1620 г. подобные вещи безусловно осуждались — обвиненный в еретичестве, книжник вновь отправился в ссылку, местом которой послужил Кирилло-Белозерский монастырь [99]. В тот же год князь подписал присланный ему «учительный список» с опровержением саддукейской ереси. Вскоре Хворостинину даровали прощение, а в 1625 г. князь умер. О личности Хворостинина, которого современники обвиняли в отходе не только от православия, но и от христианства как такового (отрицание воскресения мертвых), приписывая ему крайнюю самонадеянность и кичливость, а историки считали «духовным предком Чаадаева» (В. О. Ключевский), написано немало; «Словеса» также не раз оказывались объектом исследования [100].
Помимо «Словес», князь Хворостинин создал произведения апологетического характера, способные доказать его твердость в правой вере (и, вероятно, спровоцированные обвинениями в еретичестве): стихотворное антикатолическое «Изложение на еретики злохульники», «Повесть слезную» о Ферраро-Флорентийском соборе и трактат, направленный против евангелической церкви «На иконоборцы и на вся злыя еретики» [101].
Точное время создания «Словес» неизвестно. С. Ф. Платонов указывал 1619 г.; памятник часто связывают с периодом второй ссылки, попыткой автора оправдаться и доказать свою приверженность православию, в то время как, по мнению некоторых историков, «тексты не дают никаких оснований для этого предположения» [102]. Справедливость последней точки зрения можно прояснить, реконструировав авторские смыслы и мотивации, однако вопрос о точной датировке останется открытым.
Памятник сохранился в четырех списках [103] второй половины XVII в. Во всех дошедших до нас текстах отсутствует конец произведения: три рукописи обрываются на послании Гермогена, Копенгагенский список еще раньше [104].
Издание «Словес» было выполнено С. Ф. Платоновым по единственному известному ему списку PH Б в 13-м томе Русской Исторической библиотеки. В 1987 г. в серии «Памятники литературы Древней Руси» был воспроизведен наиболее древний Копенгагенский список, отсутствующие фрагменты восполнены по списку РНБ (в 2006 г. осуществлено переиздание в серии Библиотека литературы Древней Руси) [105]— этот текст будет использован в рамках исследования.
Ссылки на указанные издания «Истории», «Временника» и «Словес» (последнее — по изданию в серии ПЛДР) даются в тексте. Библейские цитаты приводятся по Острожской Библии [106] с указанием соответствующей главы и стиха по Синодальному пе реводу, а также листа издания 1581 года: (Мф. 24: 15–30. Л. 14). Цитаты из источников передаются современным шрифтом с соответствующим упрощением орфографии, ъ в конце слов опускается. Выделения в тексте источников мои, сокращение в рамках предложения обозначается троеточием (…), более одного предложения троеточием в треугольных скобках (<���…>).
Завершая вступление, хочу выразить искреннюю благодарность всем, чьи советы помогли мне при написании книги:
A. В. Каравашкину, Б. Н. Морозову, М. Р. Майзульсу, а также рецензентам книги: А. И. Филюшкину и Е. Б. Смилянской. Особую благодарность и искреннюю признательность я адресую своему учителю А. Л. Юрганову за многолетнюю помощь, ценные советы и неизменно полезную критику. Наконец, хочу поблагодарить свою семью: родителей И. А. Шаронова и М. Б. Антонову, жену B. В. Антонову, а также Б. П. Антонова и Е. Г. Антонову за поддержку, которую они оказывали мне во время работы над книгой.
«История в память предидущим родом» А. Палицына
Ни книги царственныя глаголют,
ни отеческие свидетельствуют
такова чюдеси за наши грехи…
Пискаревский летописецГлава 1
Гордыня и власть:
избрание Бориса Годунова и начало Смуты
Идея «Божьего батога» в источниках Смуты
Уже в самом названии первой части «книги» Палицына («История вкратце в память предидущим родом, како грех ради наших попусти Господь Бог праведное свое наказание по всей Росии…») келарь Троице-Сергиева монастыря формулирует идею, характерную для средневековой книжности и играющую принципиальную роль в публицистике Смуты и в самом памятнике. В соответствии с ней постигающие страну несчастия являются карой, ниспосланной свыше за людские прегрешения. Идея казней пронизывает весь источник: описания грехов общества постоянно сменяются призывами к покаянию и утверждениями того, что в забвении Бога — корень всех бед («Гнев же Божий, праведно попущенный видим бываше», «сиа же вся попусти Господь за беззаконна нашя», «сие же гневобыстрое наказание от Бога бысть нам» и т. п. Сказание, 118, 124–5, 212, 213 и др.).
Представление о попущении бедствий за грехи восходит к библейско-апокрифической традиции и получает в исследовательской литературе названия «Божьего батога» и казней Господних. В сочинении Палицына принцип воздаяния занимает особое место: размышления книжника о причинах попущенных бедствий крайне интересны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: