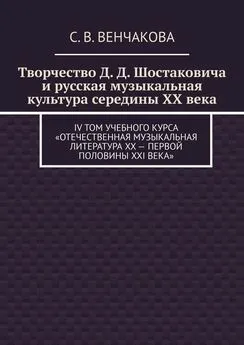Том 6. Литература первой половины XIX в.
- Название:Том 6. Литература первой половины XIX в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Том 6. Литература первой половины XIX в. краткое содержание
Том VI дает картину мировой литературы от Великой Французской революции до середины XIX века. В нем показано, что неуклонное расширение международных литературных связей приводит к тому имеющему огромное историческое значение качественному скачку в развитии мировой художественной культуры, который был отмечен классиками марксизма в "Манифесте Коммунистической партии".
Том 6. Литература первой половины XIX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Житейская проза — все материальное, вещественное, наличное — не только подавила в бальзаковской Европе былую приверженность возвышенным идеалам и самообманам, но и стала почитать себя за «идеал», за «поэзию», за «красоту». Собственность, владение выставлялись напоказ; дома, мебель, упряжки, жилеты с тяжелыми золотыми брелоками, груди в брильянтах. Мир оказался заполненным, загроможденным вещами, всем тем, что можно было купить на деньги. И, поскольку деньги были основным мерилом, купленные вещи представляли, выражали владельцев. Реалисты — и прежде всего Бальзак — разглядели эту особенность, этот всеобщий закон времени. Одним из их принципов стало подробное, скрупулезное, подчас тяжеловесное описание поверхности жизни: ведь поверхность отражала сущность. Впрочем, простой приверженностью действительному дело не ограничивалось. Вещи характеризовали лицо и, уподобляя его среде, помогали внести в диффузную общественную реальность известный порядок, разгадать необходимое в случайном.
Описав, например, в «Утраченных иллюзиях» (1837–1838), как был одет старик Сешар, Бальзак резюмировал: «Подобный наряд, выдававший в буржуа простолюдина, столь соответствовал его порокам и привычкам, так беспощадно изобличал всю его жизнь, что, казалось, старик родился одетым». Первостепенное значение придает писатель и архитектуре общественных зданий или убранству частных жилищ. Его герои немыслимы вне этой «вещной» атмосферы, она и есть их среда, от них неотъемлемая, их определяющая и ими определяемая. В медленном, напряженном развертывании повествования прослушивается некий единственно возможный и единственно верный ритм. Сами обстоятельность и тяжеловесность становятся как бы средством характеристики — жизни, событий, людей.
Не в меньшей мере, чем у Бальзака, персонажи зависят от вещей, связаны с ними у Диккенса. Последний даже радикальнее: у него натуру человека выдает не только крой сюртука, но и форма носа. Такое сращение внешнего и внутреннего сближает Диккенса с Гоголем, у которого Собакевич был как две капли воды похож на собственное ореховое бюро — такой же массивный, топорный и угловатый.
Однако такое художественное исследование персонажей не было для реализма первой половины XIX в. единственно возможным решением вопроса. Пушкин, например, экономен, даже скуп в описаниях быта. Обстановка у него по преимуществу набрасывается несколькими четкими штрихами. Такое же отношение к внешним аксессуарам и у Стендаля. «Описывать ли одежду героев, пейзаж, среди которого они находятся, черты их лица? Или лучше описывать страсти и различные чувства, волнующие их душу?» — спрашивал он и отвечал: «Бесконечно легче живописно изобразить платье какого — нибудь персонажа, нежели рассказать о том, что он чувствует, и заставить его говорить…»
Пушкин и Стендаль — это реалисты несколько иного типа, чем Бальзак, Гоголь, Диккенс. Хотя бы уже потому, что оба тяготеют к воплощению «образов, насыщенных энергией общественного протеста» (М. Б. Храпченко). Такая направленность творчества побуждала сосредоточиться на герое, на его личности, ставить ее в центр, преломлять окружающий мир через ее сознание. Оттого мир выглядел менее полным, менее вещественным, не столь подробно, как у Бальзака, описанным.
Эта — в основе своей «центростремительная» — форма социального анализа привлекала и Лермонтова, когда он писал в предисловии к «Журналу Печорина»: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Слова Лермонтова не следует толковать как предпочтение, оказываемое индивиду перед обществом. Речь здесь идет о принципе типизации: в «истории души» Лермонтов надеялся отразить по — своему «историю целого народа».
Вряд ли типическое следует рассматривать как принадлежность только реалистического метода. Еще Ахиллес, Одиссей, Гектор были типами античных эпических героев, поскольку несли в себе определенное, пусть и сводимое к идеализации, обобщение. А мольеровские Гарпагон, Тартюф, Альцест — уже вполне осознанно образы обобщенные. Однако собирались и обобщались здесь черты или пороки (скупость, лицемерие, мизантропия), как правило, просто человеческие (и потому, в сущности, извечные), хотя и усиленные временем, общественной ситуацией.
Не служит ли восклицание Гоголя: «О Мольер, великий Мольер! Ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры…» — признанием родства этих «характеров» с Собакевичем, Ноздревым, Коробочкой? Разве эти последние не являются носителями в общем и целом одной, резко укрупненной и преувеличенной черты? Нечто подобное можно сказать и о бальзаковских Гобсеке, Гранде, Горио — мономанах, чуть ли не маньяках. И все же одна, по крайней мере, особенность существенно отличает такие характеры от мольеровских. Скупость Гарпагона, не будучи обусловленной обстоятельствами жизни героя, как бы предписана ему извне. Скупость Плюшкина — социальное явление. И благодаря (а не вопреки!) этому она органически связана с индивидуальностью. Реалистическая типизация неизбежно включает в сферу своего действия сторону частную: «Открытие реализма XIX в. — типическое как диалектически сложное, опосредованное через различие и противоречие единство общего и индивидуального» (С. Бочаров).
«Различие», однако, может быть бо́льшим или меньшим, «противоречие» — лежащим на поверхности или ушедшим вглубь. И возникают либо вросшие в среду персонажи, либо «составленные из ее пороков», либо, наконец, герои, среде противостоящие, на нее ополчающиеся.
Энгельс определил реализм как «правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 37. С. 35). И в формуле этой примечательно не только то, что и обстоятельствам надлежит быть типичными. Не менее важна непременность связи, тем самым устанавливаемая обязательность взаимодействия между характером и обстоятельствами.
Без взаимопроникновения частного и общего не существует человеческой истории, ее смысла, ее движения, сцепления ее причин и следствий, придающего всем этим столкновениям, антагонизмам, всей этой игре случайного и необходимого диалектическую цельность. В какую бы кризисную эпоху ни жил художник, он имеет дело с единым бытием, единым миром. Осознание этого факта — одна из побед реализма, и прежде всего реализма первой половины XIX в. Оттого социальный анализ здесь сочетался с синтезом, т. е. с художественным восстановлением единства, целостности человеческой жизни.
Такое стремление проявлялось во всем. Чувствуется оно и в желании реалистов преодолеть односторонность других творческих методов и художественных направлений, встать над крайностями их идейно — стилистических решений и одновременно так или иначе переварить их в себе, воспользоваться ими для собственных интересов. В начале «Этюда о Бейле» (1840) Бальзак рассуждал о трех основных литературных направлениях — о «литературе образов» (созерцательной, лиричной, возвышенной), о «литературе идей» (драматичной, действенной, сжатой) и, наконец, о «литературном эклектизме», объединяющем лирику и действие, драму и оду, требующем «изображения мира таким, каков он есть: образы и идеи, идея в образе и образ в идее, движение и мечтательность». Под «литературой идей» Бальзак разумел классицизм (или даже те формы просветительского реализма, которые были с классицизмом связаны), а под «литературой образов» — романтизм. Что же до «литературного эклектизма», так это и есть новый реализм. И его непривычное для уха название призвано подчеркнуть не только всепоглощающую широту художественного обобщения, но и факт переплавки этим «эклектизмом» как просветительского реализма, так и романтизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
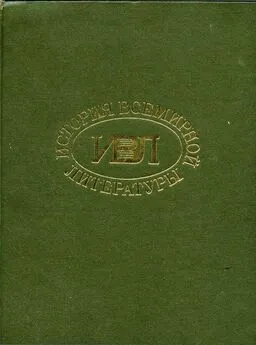
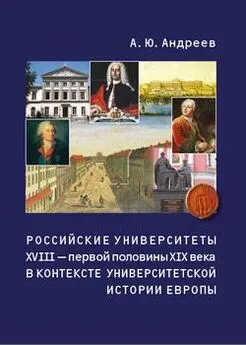

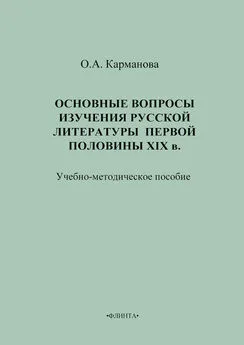
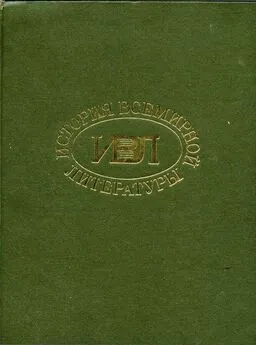
![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)