Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Название:Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 краткое содержание
Согласно Пайпсу, разделяя идеи свободы и демократии, как политик Струве всегда оставался национальным мыслителем и патриотом.
Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, «производительность» и «доход» представляют собой синонимы, и экономическому словарю нет надобности проводить различие между ними. Производить означает получать прибыль; получать прибыль, в свою очередь, можно только в процессе производства. Единственная причина, оправдывающая использование двух разных терминов в отношении одного и того же феномена, заключается в том, что в «межхозяйственных» системах, в которых оперирует множество активных субъектов, интересующее нас явление как бы раздваивается. «Производство» и «доход» по-прежнему, как и в иных случаях, остаются выражениями экономического прироста, но воспринимаются они с позиций двух различных субъектов, вовлеченных в сделку. Там, где имеется лишь один экономический субъект, как, например, в социалистическом государстве, различие исчезает; «производство» и «доход» бесследно растворяются в «приросте». Данный вывод, отмечает Струве мимоходом, имеет важное практическое значение. Он означает, что в социалистическом обществе совокупный рост «производства» отнюдь не обязательно идет на пользу отдельному гражданину, поскольку в обществах подобного типа «национальный доход» растворяется в «национальном производстве» [94].
Капитал и доход тоже идентичны: «капитал есть учтенный (= капитализированный) доход» [95]. Это, по определению, — все, что порождает доход, будь то деньги, земля или иные материальные блага. В то время как не всякие деньги являются капиталом, любой капитал может быть обращен в деньги. Именно доход определяет капитал, а не наоборот. «Восхождение от услуги к вещи, от дохода к капиталу, характеризует всю нашу систему. В этом восхождении выражается ее последовательно проводимый психоло гический функционализм в отличие от материалистического субстанциализма. Основной функцией хозяйственных благ является их потребляемость, сообщающая им в условиях ограниченного количества благ ценность и превращающая их в цены» [96]. Таких вещей, как «общенациональный» или «социальный» капитал просто не существует, и лишь при социализме государство, как единственный субъект экономической деятельности, рассматривает все национальное богатство в качестве своего капитала. В плюралистической экономике «народно-хозяйственный капитал» — это всего лишь еще одна «универсалистическая фикция» [97].
Желание же использовать заемный капитал говорит вовсе не о том, что люди ценят будущие блага более высоко, нежели блага сегодняшнего дня, как полагал Бем-Баверк; заем — это своеобразная премия, выплачиваемая собственнику капитала за воздержание от потребления. А начисляемый на долг процент объясняется ограниченным количеством всех товаров: «Люди потому уплачивают процент на занимаемый ими капитал, что иначе, без этого условия, ввиду ограниченности хозяйственных благ, никто не стал бы ни в какой форме уступать ни натуральных, ни отсылочных благ, которые по общему правилу находятся в частнохозяйственном обладании» [98].
Сказанное о «производстве» применимо и в отношении «распределения». Традиционные представления экономистов о распределении «общественного продукта» основываются на двух ложных посылках. Согласно первой, доход представляет собой некую конкретную и делимую физическую массу. Струве, как мы уже убедились, отвергает подобный взгляд: в ходе экономической деятельности производятся не материальные объекты, но «стоимости», выражаемые в цене. «Сумма экономической деятельности может быть адекватно выражена в сумме цен, но не в массе продукта» [99]. Отсюда следует, что «процесс сложения доходов не есть распределение, а есть процесс образования цен» [100]. В заимствованном политэкономией у физиократов представлении о том, что «общественный продукт» делим путем распределения, есть что-то мифологическое.
Во-вторых, традиционная концепция распределения постулирует существование общественных классов как чего-то предшествующего (предполагаемому) распределению и тем самым предопределяющего его течение. Струве, однако, полагает, что «классы» складываются в результате формирования дохода — не классовый статус устанавливает принадлежащую индивиду долю «общественного продукта», или, как он предпочитает говорить, дохода, но наоборот: доход человека намечает его общественное положение. Принадлежность к «пролетариату» или «среднему классу» определяется исключительно доходной базой.
Таким образом, как и в случае с понятиями «производительности» и «стоимости», понятием «распределения» экономическая наука может пренебречь.
Обсуждение экономических взглядов Струве будет неполным, если мы не упомянем о его взглядах на роль демографии в экономическом процессе.
Струве всегда полагал, что рост населения оказывает громадное влияние на экономическое развитие. Не случайно, отправившись в 1892 году на учебу в Грац, он из брал одним из своих наставников Хильдебранда, отстаивавшего схожие взгляды. В марксистские годы он считал довольно полезной попытку примирить Маркса с Мальтусом, или, как он тогда говорил, обогатить Мальтуса Марксом [101]. Уже тогда он был удручен неспособностью Маркса выдвинуть собственную теорию народонаселения: по мнению Струве, марксистская концепция «относительной перенаселенности» капиталистического общества была концепцией пауперизации, а не народонаселения как такового. Мальтус, с другой стороны, разработал теории и народонаселения, и пауперизации, хотя сформулировал их довольно абстрактно. Задача, следовательно, заключалась в том, чтобы примирить мальтузианские абстракции с научной теорией пауперизации, выдвинутой Марксом. От этого начинания Струве не могла отвратить даже широко известная неприязнь Маркса к Мальтусу. Он был убежден, что, несмотря на отрицание этого факта, Маркс испытал глубокое влияние Мальтуса, и что Энгельс в своей работе о Л.Г. Моргане фактически попытался соединить взгляды обоих ученых [102]. Со всеми сомнениями на сей счет Струве справился, читая один из ранних демографических трактатов Каутского, написанный под явным мальтузианским воздействием [103]. В 1890-е годы размышления на данную тему имели для Струве принципиальное значение, поскольку, как мы помним, его главный аргумент против народничества заключался в том, что основной проблемой российского сельского хозяйства было перенаселение аграрных областей. Такое затруднение, полагал он, можно преодолеть только за счет роста современной индустрии и рыночной экономики, которые позволят стране поддерживать большую плотность населения [104].
Позже, как считал Струве, ему удалось раскрыть главное противоречие демографических построений Маркса. Анализируя их скрытые предпосылки, он заключил, что, по мнению Маркса, «производительные силы» каким-то образом всегда приспосабливаются к росту населения. Для Струве данный тезис был логически неприемлемым [105]. В конце концов, он сам выступил в роли посредника между Мальтусом и Марксом: отвергая мнение первого о том, что рост народонаселения неизменно опережает рост производства продуктов питания, он одновременно не соглашался с позицией последнего, согласно которой такой дисбаланс вообще невозможен. По мнению Струве, оба фактора постоянно стимулируют и поддерживают друг друга. В целом производство товаров растет вслед за увеличением народонаселения (как и учил Маркс), но такое происходит отнюдь не мгновенно, два процесса могут не совпадать, и тогда сбываются предсказания Мальтуса' [06]. В любом случае Струве рассматривал увеличение численности населения в качестве одного из первейших факторов, стимулирующих экономические процессы. «Поскольку мы становимся на точку зрения экономического объяснения эволюции человеческих обществ, — провозглашал он в первой лекции своего курса политэкономии, — естественно именно этот фактор [демографический рост] положить во главу угла такого объяснения» [107].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
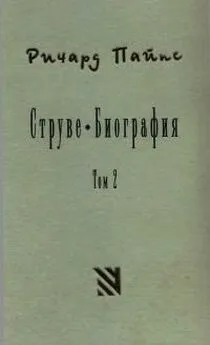









![Ричард Пайпс - Я жил [Мемуары непримкнувшего]](/books/1071983/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego.webp)