Ричард Пайпс - Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1
- Название:Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-025-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Пайпс - Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 краткое содержание
Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В конце концов Струве не осталось ничего другого, как отказаться от позитивизма, во всяком случае, перестать видеть в нем универсальную систему. С совершенной очевидностью выяснилось, что эмпирическим способом моральные императивы не могут быть ни опровергнуты, ни выведены, следовательно, моральные ценности принадлежат другой области реальности — области трансцендентного, существующей независимо от мира феноменов. «Принудительное присутствие во всяком нормальном человеческом сознании нравственной проблемы несомненно; невозможность ее решения эмпирическим путем так же бесспорна. Признавая невозможность объективного (в смысле опыта) решения нравственной проблемы, мы в то же время признаем объективность нравственности как проблемы и соответственно этому приходим к метафизическому постулату нравственного миропорядка, независимого от субъективного сознания».
Если иметь в виду философские воззрения Струве, то этот пассаж, относящийся к осени 1900 года, обозначил для него своего рода Рубикон. И если бы речь шла исключительно об интеллектуальной эволюции Струве, то именно здесь надо было бы проводить линию, разделяющую ранний и последующий периоды его жизни. Поскольку вышеприведенная цитата с очевидностью свидетельствует, что, потеряв способность воспринимать позитивизм как универсальную философскую систему, он принял дуалистическую концепцию, согласно которой мир разделен на две существующие параллельно друг другу области: эмпирическую и трансцендентную, или метафизическую. Обе они объективно реальны, обеим присущи свои собственные законы: то, что нечто существует, еще не означает, что его существование имеет основания, так как желание, чтобы что-то случилось, не гарантирует, что это случится [627].
В процессе своих метафизических исканий Струве открыл для себя философию Фихте. Он пришел к ней отнюдь не прямым путем. Ознакомившись с теми работами Бернштейна, которые были посвящены Лассалю, он принялся интенсивно изучать самого Лассаля, ученика Фихте, успешно развивавшего его философию. И только после этого обратился к первоисточнику [628]. Разумеется, и Лассаля, и Бернштейна, и Струве мало интересовал тот факт, что Фихте снискал себе известность как шовинист и автор работ «Рассуждения о немецкой нации» и «Замкнутое торговое государство», — их привлекла почти забытая философия молодого Фихте, гуманиста и автора трактата «Назначение человека» [629]. Во всех философских и политических работах Струве, написанных непосредственно после 1900 года, явственно просматривается влияние раннего Фихте.
Как и Фихте, Струве говорит о человеческом существе в понятиях «Я» — мыслящего и вечно борющегося индивидуума, который реализует себя в ходе непрерывного взаимодействия с внешним миром, то есть «не-Я». Правда, в отличие от Фихте, Струве для определения «Я» использует религиозную терминологию. Для него душа человека есть богоданная, «вечная и самоопределяющаяся субстанция» [630]. В качестве таковой она свободна, то есть способна действовать сама по себе. Согласно новым воззрениям Струве, любая метафизика должна исходить из религиозной концепции человека, в силу чего та метафизическая система, например диалектический материализм, которая не соответствует этому критерию, неприемлема [631]. Жизнь есть бесконечное стремление к самоосуществлению или самореализации «Я», в процессе которого оно осознает себя. Вся суть морали заключается в признании абсолютной ценности личности и абсолютности ее прав на самоосуществление. «Абсолютное добро и заключается в том, чтобы… всякий человек свободно содержал в себе и творил абсолютную истину и абсолютную красоту» [632].
Полагая моральные ценности вечными и абсолютными, Струве тем не менее настаивал на том, что основанное на них поведение человека имеет отнюдь не автоматический характер. Будучи «необходимой», мораль проявляется вовсе не с той «железной» обязательностью, какая превалирует в эмпирическом мире. «Если нравственное, или должное общеобязательно, то оно общеобязательно не в том смысле, в каком общеобязательно сущее. Общеобязательность долженствования предполагает всегда не только возможность, но даже реальность непризнания этой общеобязательности. “Ты должен” — всегда предполагает: “ты можешь и отрицать долженствование”. “Ты видишь, ты понимаешь” значит всегда: “ты не можешь не видеть, не можешь не понимать”» [633].
Именно в том и заключается специфика этики, что, несмотря на императивный характер ее принципов, они реализуются в ходе духовного конфликта. Моральный долг осознается таковым только после напряженного диалога, происходящего в переживающей раздвоение человеческой душе. В процессе реализации моральных принципов допускается свобода и сознательный выбор [634]; секрет действенности морали заключается в специфическом смешении долга и возможности выбора, обязанности и свободы [635]. Подобная этическая концепция очень близка к фихтеанской. Согласно Струве, свобода является необходимым компонентом этического поведения, поскольку отсутствие свободного выбора между альтернативными действиями означает отсутствие внутреннего конфликта, в силу чего действие не может иметь статус морального: «[Формальный момент определения «высшего блага»] заключается в признании индивидуальности, свободы и равенства, как необходимых условий осуществления в человеке абсолютного добра, или высшего блага. Без этих формальных условий высшая ценность жизни, воплощение в человеке абсолютной истины и абсолютной красоты не только не достижима, но и способна превратиться в свою прямую противоположность, в глубочайшую безнравственность…» [636]
Почему «равенство» столь же необходимо, как и индивидуализм и свобода? «Я глубочайшим образом уверен в том, что идея равноценности людей, как продуманное до конца философское убеждение, опирается на идею субстанциального бытия духа, и что в этом смысле наименование «христиански-демократическая мораль» совершенно верно» [637].
Не существует прямого связующего звена между миром существования и миром трансцендентного, можно сказать, что эти миры соединяются внутри нашей психики, в том смысле, что крепость идеалов зависит от убежденности, что в мире вещей все идет так, как нам представляется должным. «Есть явления, которых существо, реальный смысл и эстетическая прелесть заключаются в своеобразном и таинственном сожительстве противоположных начал. Так, идеал, к которому мы стремимся, не может быть для нас вполне необходим. Если он будет сплошь окрашен в цвет необходимости, то для его осуществления не нужны наши стремления, как не нужны они для движения небесных светил и для отложения морских берегов. Но, с другой стороны, мы будем чувствовать себя страшно слабыми, если на стороне нашего идеала будет только одна сила, — наше желание осуществить его. Мы всегда сознательно ищем или бессознательно примышляем для этой силы мощного союзника — силу вещей. И мы будем тем увереннее в конечном наступлении идеала, чем больше работы возьмет на себя бессознательная стихийная сила вещей. Наше свободное деяние никогда не может исчезнуть вполне из представления об идеале, ибо иначе он распадется как таковой, превратившись из человеческого творчества в естественное течение вещей, но чем больше это последнее будет работать с нами и для нас, тем бодрее будем мы взирать на будущее. Для существования идеала как такового нужно участие нашего свободного деяния. Но для крепости этого идеала как объективного факта, для реального его воплощения в жизни нужно как можно большее участие в его созидании силы вещей. А так как все человеческое без остатка слагается из этих двух величин, то, очевидно, что возрастание одной означает умаление другой. Умаление это, однако, носит совершенно своеобразный характер в нашем случае: оно не есть вовсе уменьшение ни внутренней силы, ни моральной ценности свободного деяния. Умаляясь в сравнении с объективным фактором, свободное деяние объективно крепнет от этого умаления и в то же время совершенно не поступается своею внутреннею ценностью. Свободное деяние теряет смысл там, где вся территория захватывается силой вещей, но психологически оно может занимать очень много места и значить очень много, хотя бы в реалистически-обоснованном образе будущего ему и пришлось объективно совершенно отступить на задний план перед силою вещей» [638].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









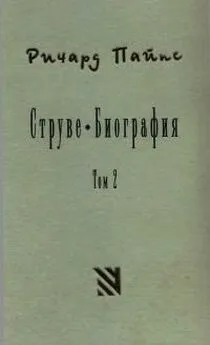
![Ричард Пайпс - Я жил [Мемуары непримкнувшего]](/books/1071983/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego.webp)