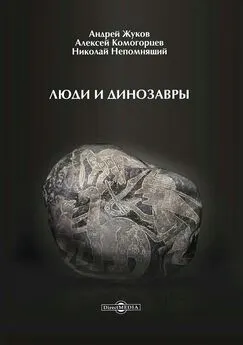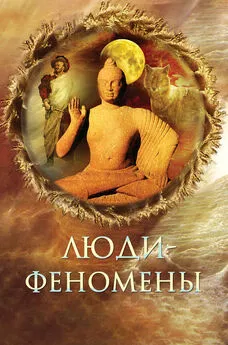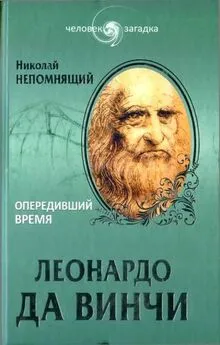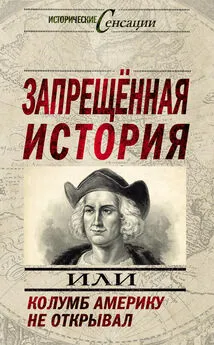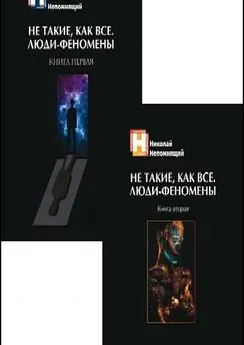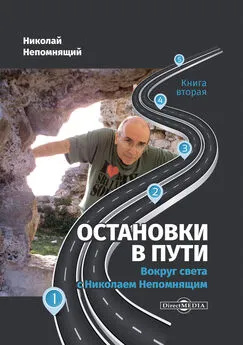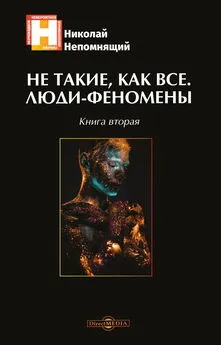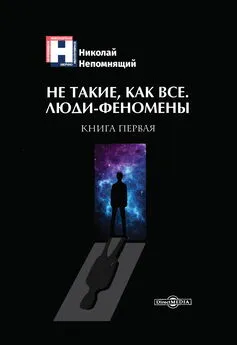Николай Непомнящий - Люди и динозавры
- Название:Люди и динозавры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Директ-Медиа
- Год:2019
- Город:Москва; Берлин
- ISBN:978-5-4475-9991-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Непомнящий - Люди и динозавры краткое содержание
Люди и динозавры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Немецкий путешественник, географ, ориенталист и историк Адам Олеарий (1599–1671), побывавший в Новгороде в 1654 г., следующим образом описывает идол Перуна, поставленный Добрыней: «Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения этому божеству содержали неугасимый ни днем, ни ночью огонь, раскладываемый из дубового леса. И если служитель при этом огне по нерадению допускал огню потухнуть, то наказывался смертью».
Таким образом, речь идет о боге-громовнике, с которым связывается происхождение первичного (догероического) змееборческого сюжета, повествующего о покорении земли через нейтрализацию наиболее деструктивных хтонических чудовищ, олицетворяющих ее первозданную необузданную мощь (греч. χθων — земля, почва). Как и в случае с наиболее архаическими представлениями о подвиге героя-змееборца, такое космоустроительное действие далеко не всегда подразумевало буквальное уничтожение чудовища-антагониста. К примеру, в древнегреческой мифологии нейтрализованные в ходе космогонического процесса «старые» боги, такие как Кронос, наряду с побежденными титанами и циклопами заключаются в Тартаре, о котором говорится как о «начале всех вещей» и «бездне великой». Он вечно сохраняет в себе «остаточный» хаос и потому выступает в качестве неиссякаемого источника энергии, питающего все уровни мироздания.
Нужды государственного строительства неумолимо требовали достижения внутреннего религиозно-идеологического единства древнерусского государства. Этот процесс сопровождался борьбой с региональными народно-аристократическими культами как потенциальными проводниками децентристских тенденций и попыткой их замещения общегосударственным пантеоном во главе с Перуном. Как и в случае с римским императором Диоклетианом, усилия Владимира Святославовича по реформации языческой религии не принесли должных результатов. Новый языческий пантеон не смог органично интегрировать все племенные культы и верования в единую государственную религиозную систему. Великому князю хватило политического чутья, чтобы, осознав бесперспективность этого пути, вовремя изменить курс и последовать примеру Константина Великого. Остатки местных культов частью были вытеснены на религиозно-культурную периферию, а наиболее жизнеспособные и значимые из них постепенно интегрировались в православную традицию. К числу последних относился и культ подземно-подводного ящера.
Ящер — хозяин вод, рыбы и водных путей, был, очевидно, важен для новгородцев, которые свои земледельческие моления адресовали преимущественно рожаницам, а моления о рыбных богатствах и водных путях, игравших важную роль в их жизни, обращали к богу Jassa, царю вод. Последний выступал в двух ипостасях: как бог Ильменя и Волхова (чародей Волхов — «коркодел») и бог «синего моря соленого» — морской царь.
С ящером, воплотившимся в образе морского царя, тесно связан новгородский цикл былин о Садке. Наиболее архаический слой преданий, повествующий об игре мудрого гусляра («Он из хитрых же Садко да был хитер-мудер, Ен ходил-то все играл да все ко озеру») ради хорошего улова рыбы, по всей видимости, представляет собой часть древнего обряда, производившегося у священного места, названного после 980 г. Перынью, а в более раннее время посвященного богу реки, «бесоугодному чародею» Волхову (Волху), «залегающему водный путь» и «преобразующемуся во образ лютого зверя коркодела».
Орнамент новгородских гуслей XI–XIV вв. прямо указывает на связь этого культового инструмента со стихией воды и ее повелителем, царем подводного царства Ящером. С большой долей вероятности к тому же разряду инструментов относятся и украинские бандуры — этнографам хорошо известны многочисленные примеры изображения на них ящеров и волн. Следует понимать, что гусляры были тесно связаны с языческой религиозной культурой, а рисунки на новгородских гуслях представляют собой символический аналог рун, которые в символической форме повествуют о некоторых важных сюжетах.
На тесную связь гусляров с хозяином поземно-подводного мира Ящером и преданием о Волхе указывает сюжет некоторых фигурок из клада, обнаруженного неподалеку от населенного пункта Влестино (Фессалия, Греция, предположительно VI–VII вв.). По мнению специалистов, фигурки из Велестино наглядно иллюстрируют ключевые сюжеты славянской мифологии. Одна из них изображает сидящую обнаженную женщину, которая в левой руке держит гусли с изображением птицы, опирающиеся на ее левую ногу, а правой рукой придерживает ящероподобного младенца, сидящего на ее правой ноге. Голова младенца имеет отчетливые зооморфные черты: неестественно крупные по отношению к маленькому черепу круглые глаза, характерные для ящеров с антских пальчатых фибул, суженный подбородок и острый гребень, проходящий по середине черепа. Рукой с длинными пальцами или когтями младенец тянется к левой груди женщины. Его нога изогнута четыре раза, поскольку автор развернул ее к зрителю пяткой, которая прикрывает лоно женщины. Пальцев-когтей на конечностях младенца четыре или три. Такая четырехпалость характерна для фигурок из Велестино.
Исследователи предполагают, что женскую фигурку с младенцем-ящером следует рассматривать в комплексе с другой фигуркой из Велестино, изображающей покровителя гусляров Велеса, представленного в виде льва, играющего на гуслях. Согласно преданию, Волх родился от плотского союза женщины и змея, т. е. совмещал в себе двойственную природу: зверя и человека. На фигурке из Велестино такой двойной природой обладает младенец-ящер. Фигурка рассказывает о рождении младенца, т. к. его изображение помещено между лоном и грудью женщины, которая, судя по всему, приходится ему матерью. Женщина на фигурке не только вскармливает младенца, но и обучает его «премудрости» гусляра. Волх, как и Велес, — оборотень и гусляр. Следуя логике реконструкторов мифов о Волхе, фигура из Велестино с младенцем-ящером изображает сына Велеса-змея, которого мать обучает умениям отца, передавшего сыну свои звериные черты. Таким образом, автор фигурок из Велестино, имевший, по всей видимости, отношение к гуслярам, рассказывает о передаче традиций языческого музыкального искусства от Велеса Волху, а через него — волхвам и гуслярам.
В пользу такого предположения свидетельствует топонимика местности, где был обнаружен клад с фигурками: в VII в. эту часть Греции заселяло славянское племя велегезитов, чье именование созвучно имени Велеса, а в непосредственной близости от Велестино находятся два города с названием Велес (Македония) и Волос (Греция). Такая концентрация названий, связанных с Велесом-Волосом, может говорить о том, что главным божеством у велегезитов, как и у Ильменских словен, являлся Велес, а сами они могли считать себя непосредственными потомками этого божества, «велесовыми внукам».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: