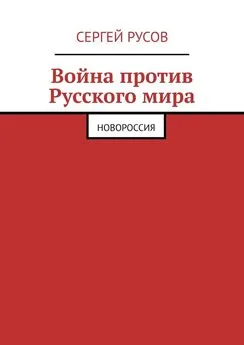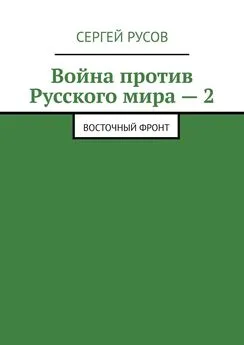Альберт Зейдель - План Сталина: борьба за войну и против политики мира, 1927-1946. Книга 3 [калибрятина]
- Название:План Сталина: борьба за войну и против политики мира, 1927-1946. Книга 3 [калибрятина]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Inputmax Ltd
- Год:2016
- ISBN:9780994776327
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Зейдель - План Сталина: борьба за войну и против политики мира, 1927-1946. Книга 3 [калибрятина] краткое содержание
План Сталина: борьба за войну и против политики мира, 1927-1946. Книга 3 [калибрятина] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Другой свидетель рассказывает о тех, кто стал инвалидом:
“Я видел один такой лагерь в Магадане. В нем были только инвалиды без рук и ног. Слепых я не видел. Все они стали калеками, отморозив конечности в шахтах. И они не ели свой хлеб даром, а зарабатывали его плетением корзин или шитьем мешков. Даже калеки без обеих рук перекатывали ногами огромные бревна. Другие, без ног, рубили дрова. Я видел и навсегда запомнил, как эти инвалиды ползли в баню пятерками”.
Все наши люди, вернувшиеся оттуда, повторяли слова советских заключенных: в отдаленных районах Восточной Сибири (бассейн Лены и Енисея) находятся спецлагеря, отрезанные от всего мира. Туда якобы и перевозили инвалидов. От одного из наших заключенных, который видел эти составы в порте Находка, я услышал следующее: «Кошмарное зрелище, свидетелем которого я был в лагере «Бухта Находка». Однажды на большом судне привезли около 7 000 калек из лагерей Колымы и Чукотки. 70% без ног, причем без обеих ног, без рук, ушей, без носов, слепые и сумасшедшие. Год назад, а некоторые и менее года назад, они были отправлены в лагерь совершенно здоровыми людьми, а сегодня, чудовищно искалеченные, они либо ползут на животе, либо совсем не в состоянии двигаться самостоятельно. Почти все с политическими статьями. Вы думаете, их освободили? Нет. Они были бы компрометирующим свидетельством против режима. Мы часто разговаривали с этими беднягами. Ненависть перехватывает горло, когда я вспоминаю все это. Их не освободили, их везли на верную смерть вглубь Сибири, далеко на север от Иркутска. Я сам работал, готовя для них вагоны. Ушло шесть эшелонов».
Принцип — никто не должен вернуться с Колымы — строго соблюдается. Это касается даже охранников НКВД и чиновников. Конечно же, живут они в относительном комфорте и достатке, но никогда уже не увидят ничего, кроме Колымы». [315]. В. Андерс. «Без последней главы».
Ниже свидетельство врача-заключенного о времени заключения в ИТЛ.
«Почти четыре года прошли с момента моего ареста, и я практически всю войну находился в местах заключений. Возможно, мне завидовали, что я «отсиживался» в тылу и остался жив, когда другие сражались на фронте и гибли. Но завидовать было нечему, т. к. потери в тюрьмах и лагерях были не меньше, чем на передовой. Я знаю, что из призывников 1923 г. рождения лишь три процента вернулись домой, в то время как (в военное время) смертность один процент лагерного состава в день считалась заурядной. Это означало, что через три с лишним месяца все заключенные, не считая «придурков», превратятся в лагерную пыль. Правда, это почти не бросалось в глаза, т. к. постоянно прибывали новые этапы с арестантами, заменяющими умерших». [316]. Левенштейн (Джонстон) Г.-Р. «Марийский лесоповал: Врачом за колючей проволокой».
Такая система ИТЛ обеспечивала поддержание количественного состава трудовых ресурсов, занятых на объектах, полное сохранение секретности работ, а также методичную ликвидацию огромных масс людей, не соответствующих представлению руководства страны о том, какими должны быть граждане будущего коммунистического государства.
Схема попадания в лагерь была предельно проста. Арест, стандартное обвинение, признание под пытками справедливости обвинения и на основании признания следовало формальное решение суда со стандартным сроком заключения в Исправительно-Трудовом Лагере. Вот пример такого достаточно заурядного дела, который приводит Днепропетровский национальный исторический музей.
«Ознакомившись с семитомным следственным делом “Промпартии”, составленным Криворожским отделом ГПУ УССР и хранящимся в архивах Днепропетровского СНБ, еще раз убеждаешься в том, что все политические процессы 30-х годов сфабрикованы органами ГПУ и написаны по одному сценарию.
Читаем выдержку из дела: «…раскрыта контрреволюционная вредительская и диверсионная организация инженеров, штейгеров и техников на рудниках Криворожского железорудного бассейна, поставившая цель путем широкого применения вредительства и диверсии создать наиболее благоприятные условия для иностранной интервенции и в конечном итоге реставрации капиталистического строя. Контрреволюционная организация руководилась и была связана с ЦК «Промпартии» в Москве и Украинским инженерным центром в г. Харькове, являясь, таким образом, отраслевой организацией «Промпартии».
28 марта 1931 г. Криворожским городским отделением ГПУ УССР было вынесено обвинение и предано суду 12 человек «из числа старых специалистов с антисоветским прошлым или происходящих из буржуазных элементов».
Судебная тройка при Коллегии ГПУ УССР от 10 апреля 1931 г. Постановила:
Фукса Эдуарда Карловича — заключить в концлагерь, сроком на 10 лет.
Попова Александра Алексеевича — концлагерь, 7 лет.
Теребеша Ивана Ивановича — концлагерь, 7 лет.
Боровского Велибальда Константиновича — концлагерь, 5 лет.
Мелифеси Николая Герасимовича — концлагерь, 5 лет.
Шестопалова Николая Алексеевича — концлагерь, 5 лет.
Дойника Ивана Андреевича — ссылка пять лет.
Кондрацкого Александра Онуфриевича — ссылка три года.
Прозоровского Владимира Алексеевича — ссылка пять лет.
Писанко Кирилла Степановича — освободить, дело прекратить.
Стефанова Вукола Алексеевича — лишить свободы в общих местах заключения, 3 года.
Гирина Фабиана Исидоровича — ссылка пять лет».
Из протоколов допросов узнаем, что осужденные признали себя виновными во вредительской деятельности, которую им инкриминировали, а именно: закладка и восстановление нерентабельных шахт; расходование средств, чтобы при максимуме затрат получить минимальный эффект; проведение неправильного бурения, путем дорогостоящих глубоких шурфов, каковые зачастую не давали результатов (оттягивая ассигнуемые средства на действительно необходимые геологические разведки); срыв промышленно-финансовых планов, путем систематического невыполнения программы по добыче; непринятие мер к обеспечению нормальных условий труда, что вело к увеличению несчастных случаев, тяжелых условий труда в забоях, систематическим обвалам и вызывало большое недовольство рабочих; расходование повышенных норм динамита, при которых большое количество взрывчатки попадало в загружаемую на заводы и экспорт руду, что вызывало систематические взрывы при погрузке, связанные с несчастными случаями, вызывая осложнение с экспортом руды и большое недовольство рабочих на предприятиях…».
Из прошения Гирина Фабиана Исидоровича прокурору Верховного Суда по надзору за ОГПУ г. Москвы от 11 апреля 1933 г. становится ясно, почему подследственные признали себя виновными и давали «чистосердечные» показания. Читаем “… Все обвинения от начала до конца голословны и приговор явно жесток и крайне несправедлив. Протокол показания мною подписан под угрозой силы оружия, после вынужденного сидения на стуле…”». [317].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Альберт Зейдель - План Сталина: борьба за войну и против политики мира, 1927-1946. Книга 3 [калибрятина]](/books/1072444/albert-zejdel-plan-stalina-borba-za-vojnu-i-protiv-politiki-mira-1927-1946-kniga-3-kalibryatina.webp)
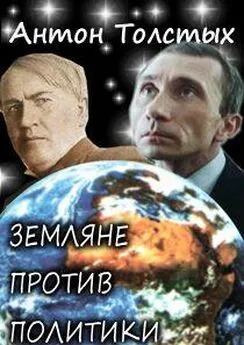
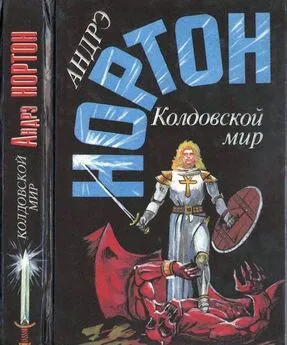
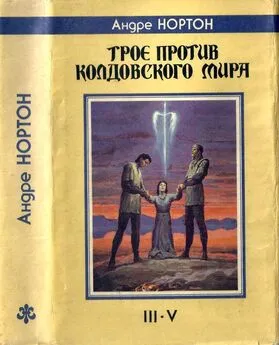
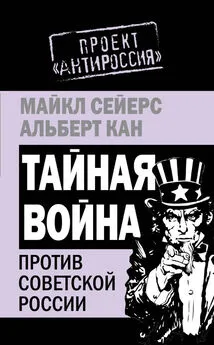
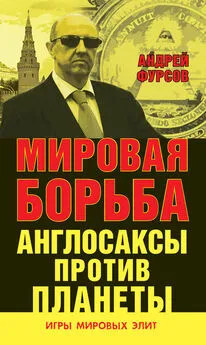

![Антон Толстых - Земляне против политики [новая версия] [СИ]](/books/1145856/anton-tolstyh-zemlyane-protiv-politiki-novaya-versi.webp)