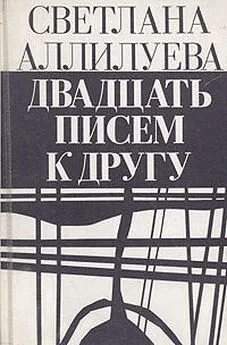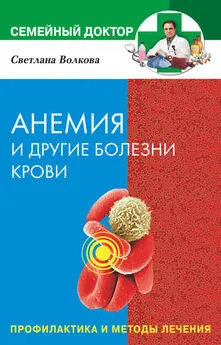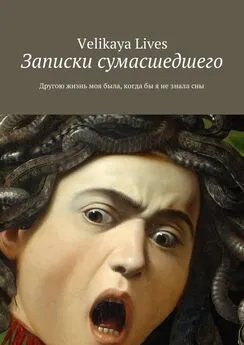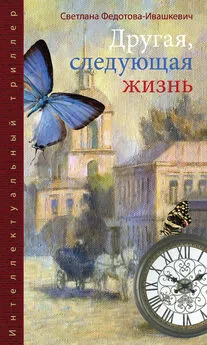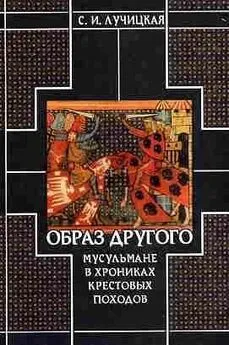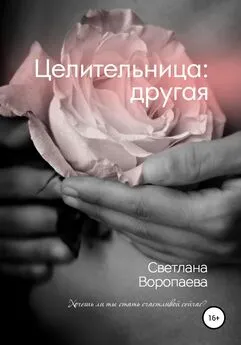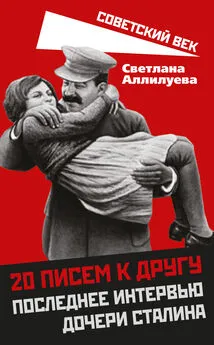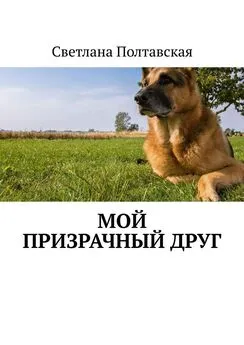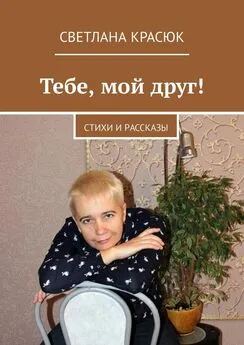Светлана Мрочковская-Балашова - Она друг Пушкина была. Часть 1
- Название:Она друг Пушкина была. Часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТЕРРА—Книжный клуб
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-300-02870-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Мрочковская-Балашова - Она друг Пушкина была. Часть 1 краткое содержание
В первой части речь идёт о Разумовских и Трубецких — знакомых Пушкина и их потомках. Повествуется и о Дантесе, о тайне гибели поэта.
Разработка оформления серии художника И. МАРЕВА
Она друг Пушкина была. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не российский посол Андрей Кириллович оказался продолжателем австрийской ветви рода — у него не было детей ни от первого, ни от второго брака. А его младший брат — Григорий Кириллович. Его потомки ныне живут в Вене.
Я долго искала случая познакомиться с Марией Андреевной Разумовской. О ней узнала от Ольги Раевской — преподавательницы в Венском французском лицее. Интерес к Разумовской родила вышедшая на немецком языке её замечательная книга «Марина Цветаева. 1892—1941. Миф и действительность» [38] Razumovsky М. Marina Zvetajewa. 1892—1941. Mythos und Wahrheit (Age d’Homme Karolinger, 1981).
. А через два года английское издательство [39] Overseas publications Interchange Ltd & Queen Anne’s Garden.
опубликовало её русский перевод. Это была первая биография поэта. Ещё не появились воспоминания Анастасии Цветаевой, Ариадны Эфрон. Только задумывались и писались книги Анны Саакянц, Марии Белкиной, Виктории Швейцер. Не были опубликованы воспоминания современников, собранные Вероникой Лосской. Глубокий поклон Марии Андреевне и за то, что написала и издала раньше других «Хронику жизни» Цветаевой, и за то, что с юности была очарована поэтом, переводила в тетрадку её стихи на немецкий язык, а потом решила познакомить с ними немецкоязычных читателей — подготовила сборник и опубликовала его в Германии.
Раевская обещала представить меня Разумовской, но ей пришлось неожиданно уехать из Вены, а я осталась… не солоно хлебавши. Решилась разыскать её сама. Знала, что работает в русском отделе Австрийской Национальной библиотеки. Звоню в библиотеку, прошу телефониста связать меня с графиней Разумовской, в ответ он строго переспросил: «Frau Razumovsky?» Хороший урок мне преподнёс: в Австрии после установления республики в 1918 году отменены все дворянские титулы. Они сохранились лишь в узком кастовом кругу, а в гражданском обществе не принято употреблять их в общении. Связаться с Марией Андреевной было не так просто — она работала по сменам, не сидела сиднем в бюро — то в книгохранилище отлучится, то в коллектор. Наконец-то услышала в трубке её голос — низкий, чуть глуховатый, с лёгким немецким акцентом. Она согласилась на встречу, но сразу же предупредила, что времени у неё в обрез.
Мы встретились в кафе библиотеки. Очень высокая, сухопарая, внешне — типичная австрийка, хотя по матери, княгине Екатерине Николаевне Сайн-Витгенштейн, — русская. Но русской себя не считает. «Мы, австрийцы…» — очень часто подчёркивала она. Это нарочитое отмежевывание от собеседника немного раздражало и держало в напряжении. За ним слышалось другое: «Вы, советские…» Думаю, что её отчуждённость не была плодом моей фантазии, обострённой чувствительности или закомплексованности. Читая русский перевод этой книги, сделанный матерью Марии Андреевны — Екатериной Николаевной, я ещё раз поразилась её гипертрофированному антисоветизму. В своём блокноте, записывая по ходу чтения впечатления о книге, отметила это резкое несоответствие между жанром повествования — хроникой — и стилем: спокойный рассказ вдруг превращался в яростное памфлетное обличение. Меня, читателя, это повергало в уныние: подобные эскапады в один миг разрушали впечатление об авторе произведения как об обаятельном, умном человеке. Убеждена, что писателю, да ещё хроникёру, категорически противопоказано отдаваться во власть неподвластных разуму эмоций. «Милая вы моя, Мария Андреевна, — писала я в записной книжке, не смея высказать ей это в письме или при встрече, — какую же замечательную книгу вы написали! А слог-то какой: краткий, ясный, без словесных выкрутасов, — только мысль, просто и точно выраженная. Это лучшее и самое полное, что я читала о поэте Марине. Как это выгодно отличается от Анастасии Цветаевой (к тому времени уже был опубликован журнальный вариант её книги. — С. Б.) ! Как правильно заметила Ариадна, сестра, хотя и похожа на Марину, лишь бледная её тень. Вы превзошли Анастасию непредвзятостью к Марине, точностью, обилием сведений…»
И вот мы сидим в кафе — на столе стынет заказанный кофе, стоят нетронутыми вкусные венские пирожные. Разговор не клеится, по крайней мере так мне кажется, — не получилось той задушевной, располагающей беседы, какая иногда получается у незнакомых людей с первой встречи. И я злюсь на себя за своё бессилие преодолеть барьер безличного общения. Может, оттого, что я так долго подступалась к ней? Или от сразу же возникшего убеждения, что я давно, тысячу лет, знаю эту женщину и она неслучайный для меня человек, а она этого не понимает, не хочет понять? А может, Марина связала нас — она так глубоко почувствовала Цветаеву, что я сразу же полюбила её за близость приближения к поэту, что не каждому дано… Мария Андреевна между тем ведёт вежливую беседу, расспрашивает о газете, которую я представляла в Вене, обо мне самой, о семье. Между прочим совсем не обидно заметила, что в Австрии не очень доверяют советским журналистам за их необъективность и тенденциозность. И я снова почувствовала себя виновной за всё и вся, за всех советских корреспондентов за границей, за то, что происходило за советским железным занавесом. Ах, как мне надоела эта роль — полпреда моего дорогого отечества! Как нелегко было отвечать — где бы я ни находилась — на бесчисленные «отчего» и «почему» моих собеседников. Я пообещала Марии Андреевне снабжать её новыми книжками о Цветаевой, которые покупала в русских книжных магазинах Москвы, Чехословакии, Польши. Однажды привезла ей из Москвы только что выпущенную пластинку с душераздирающим доронинским завыванием стихов Цветаевой. Разумовская несказанно обрадовалась подарку, но ещё больше списку — в несколько страниц — всех публикаций Цветаевой и о ней, составленному мною по каталогу Ленинской библиотеки.
Род матери Разумовской по отцовской линии имел австрийские корни. Габсбургский подданный, младший в семье сын, граф Христиан Людвиг Сайн-Витгенштейн-Берлебург в 1762 году приехал в Россию искать славы и богатства. Он поступил на службу в русскую армию, дослужился до чина генерал-лейтенанта. Его сын Пётр Христианович был известным фельдмаршалом, а после смерти Кутузова — главнокомандующим русской армией в Отечественной войне 1812 года. За боевые заслуги ему был пожалован титул светлейшего князя. Мать Разумовской, Екатерина Николаевна, представляла пятое обрусевшее колено этой фамилии в России. После революции семья Витгенштейн эмигрировала в Австрию — свою прародину. Здесь произошло то, что, наверное, должно было произойти: Екатерина Николаевна встретила Андреаса Разумовского. Их встреча была игрой Провидения. У него свои, неведомые нам законы. Возможно, выбор пал на эти две фамилии ещё вот почему: в них шло как бы «выпаривание» основной, родовой крови — с каждым поколением русел австрийский род, а русский род Разумовских — онемечивался. Примерно в то же самое время, когда первый Витгенштейн обустраивался в России, младший сын гетмана Кирилла Григорьевича был отправлен обучаться наукам в Европу. Он единственный из детей гетмана не пожелал вернуться в Россию. Звали его Григорием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: