Владимир Кузнецов - Очерки истории алан
- Название:Очерки истории алан
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ир
- Год:1992
- Город:Владикавказ
- ISBN:5-7534-0316-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание
Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В данной связи нужно отметить, что, по сведениям Л. Я. Люлье, у убыхов существовало племя алань (42, с. 14); есть сведения со ссылкой на датского ученого Денедигсена, изучавшего язык и предания убыхов, что часть убыхов до последнего времени именовала себя аланами (43, с. 24). По А. Н. Генко, у убыхов существовало племя арлан (44, с. 235–236), что соответствует информации Л. Я. Люлье. Конечно, это не случайные совпадения. Но с чем мы здесь имеем дело— с усвоением только этнонима алан частью убыхов или с инкорпорацией убыхами какой-то группы средневековых алан? С исчезновением убыхов с карты Северо-Западного Кавказа в 60-е годы XIX в. этот вопрос остается не выясненным.
Аналогично какие-то аланские группы могли быть инкорпорированы в абхазскую среду. Аланы верховьев Кубани соседили с абхазами, часто бывали в Абхазии и могли здесь оседать. Путешествовавший в XVII в. по Кавказу турецкий ученый Эвлия Челеби среди абхазов называет «колено Арлан» (45. с. 174), что фонетически соответствует одноименному племени убыхов. Интересующему нас вопросу посвящены специальные статьи Г. В. Цулая и Ш. Д. Инал-Ипа. Г. В. Цулая пишет: «Историко-археологические исследования… давно привели ученых к твердому убеждению о великой роли алан в истории буквально почти всех народов Кавказа от античной эпохи до позднего средневековья, от Дагестана и до Мегрелии и Армении» (46, с. 89). Как указывает Ш. Д. Инал-Ипа, роды Алания, Осия, Шармат являются, по всей вероятности, потомками переселившихся некогда в Абхазию групп осетино-алано-сарматского происхождения (47, с. 223). Таким образом, генетические связи с той или иной степенью глубины объединяют своими узами алан не только с осетинами, но и с балкарцами, карачаевцами, адыгами, убыхами, абхазами.
На востоке наиболее активные этнические и культурные связи аланы имели с вайнахами — ингушами и чеченцами. Их соседство было весьма длительным и глубоким, а какая-то группа древневайнахского населения под именем двалов в ходе аланской миграции была ассимилирована аланами и вошла в этногенез осетин как существенная (если не основная) часть субстрата. В свою очередь, как свидетельствуют археологические памятники и прежде всего катакомбные могильники, в VII–IX вв. происходит частичная инфильтрация алан в горы современной Ингушетии, особенно в Ассинское и Джерахское ущелья; вероятно, это продвижение алан связано с арабо-хазарскими войнами и необходимостью усилить контроль над Дарьяльским проходом. Быть может, именно в это время в Ассинском ущелье сооружается оборонительная стена, упоминаемая в литературе. Во всяком случае именно в указанное время здесь возникает ряд аланских катакомбных могильников — у быв. станицы Фельдмаршальской, у с. Алкун, Гоуст (48, с. 24–25). В дальнейшем — с X в. — аланское население этот район покидает или ассимилируется, очевидно, в связи с продвижением сюда кистов — ингушей (49, с. 172; 50, с. 30–39), но алано-осетинское влияние на язык и культуру ингушей прослеживается весьма отчетливо (51, с. 715–718; 52, с. 54–55). Это и неудивительно, ибо часть аланского населения влилась в состав ингушей (50, с. 39).
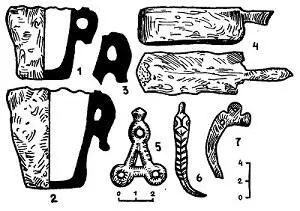
Эта картина рельефно дополняется доминацией алан вплоть до ХII–XIII вв. на нынешней чеченской плоскости, которая вырисовывается на основании достаточно широкого распространения аланских археологических памятников — городищ и катакомбных могильников, в сферу которых входит даже граничащая с Дагестаном Ичкерия (53, 54). Несомненно, и здесь имели место не только культурные контакты, но и внутрирегиональные этнические связи, хотя характеризовать их мы не можем. Из археологических исследований в горной Чечне вытекает, что после татаро-монгольского нашествия здесь, как и в Осетии, происходит отток аланского населения в горы, где, возможно, под его влиянием появляются немногочисленные полупещеры-полукатакомбы, датируемые XIV в. и позже (Ушкалой, Шатой; 55, 56). Ушкалойский пещерный склеп имеет явные точки соприкосновения с пещерным склепом XIV в. Дзивгиса в Северной Осетии. Этот вид погребального сооружения долго не удержался и был поглощен чисто «горными» конструкциями — склепами, в чем, может быть, можно видеть свидетельство быстрой ассимиляции этих немногочисленных остатков алан чеченцами. Этот материал еще невелик и подобная интерпретация является гипотетической, но допустимой.
Наконец, в самом кратком виде коснемся южного направления этнокультурных взаимосвязей алан и их вклада в культурную жизнь народов Закавказья. В аспекте историческом мы об этом уже говорили. В аспекте этнокультурном наиболее заметны следы аланского влияния на грузинский и армянский языки; более значительно влияние на грузинский (57, с. 167–179; 58. с. 45–51). Отмечено влияние на сванский (59, с. 180–186) и некоторые языки Дагестана (60, с. 333–338; 61, с. 132–133), а также на мегрельский (62, с. 32–38).
Таким образом, если для Осетин ираноязычные аланы, как и кавказские субстратные племена, являются основными этноязыковыми предками, то со многими другими народами Кавказа они имели глубокие связи через свой вклад в их генофонд или длительные языковые и культурные контакты, отразившиеся в наследии как той, так и другой стороны. В этом смысле «аланское наследство» живо по сей день; ретроспективно оно обеспечивает диахронную преемственность этносов и культур в течение столетий и даже тысячелетий, а аланскую проблему для науки делает не только национально-осетинской, но и интернациональной кавказской. В этом, а не в решающей роли «однородной этнической кавказской среды» конца бронзового — начала железного веков (63, с. 398), мы видим одну из главных причин распространения иранских мотивов нартского эпоса среди кавказских народов. Я думаю, что ни о какой «однородности этнической кавказской среды» ни в эпоху бронзы, ни позже не может быть и речи, скорее наоборот: чем в более глубокую древность мы будем погружаться, тем более раздробленную этническую среду мы будем встречать.
Но аланское наследие не ограничивается регионом Кавказа. Столетиями аланы соседили с восточнославянскими племенами, особенно в бассейне Верхнего Дона в период салтово-маяцкой археологической культуры VIII–IX вв. и позже — вплоть до XII–XIII вв. Отсюда и из других районов Северного Причерноморья с сарматской эпохи иранские этнические элементы и культурные импульсы проникали вглубь славянских земель. «Кровь сарматов и аланов течет в жилах многих народов. Довольно большую роль сыграли они и в славянском этногенезе», — отмечает А. М. Хазанов (64, с. 102). Специально на этих вопросах останавливается В. В. Седов, считающий что «в истории славяно-иранских языковых и культурных отношений выявляется период, характеризуемый очень значительным воздействием иранского населения на одну из групп славян. Это воздействие охватывает не весь славянский мир, а только юго-восточную часть его. Проявляется иранское влияние и в языковых материалах, и во многих элементах материальной и духовной культуры славян… Количество иранских параллелей в языке, культуре и религии славян настолько значительно, что в научной литературе поставлен вопрос о славяно-иранском симбиозе, имевшем место в истории славянства» (65, с. 98–99). Ареал этих контактов, по В. В. Седову, ограничен Северным Причерноморьем, а время — в основном первая половина I тыс. н. э., не исключая и вторую половину (65, с. 100). В настоящее время языковеды выявляют аланизмы в русском языке (66, с. 37–42), но эта работа только начата. Сюжеты с героями сармато-аланского происхождения выявлены и в русском фольклоре (например, сказания о девушках-наездницах «поляницах»; (67, с. 33–35; 68, с. 100; 69, с. 596).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










