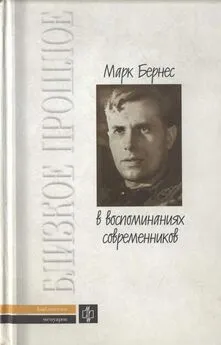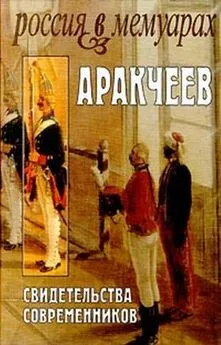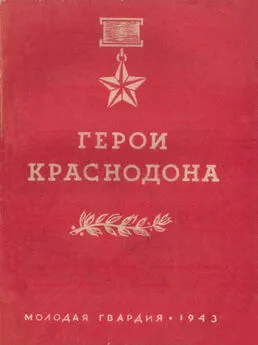Коллектив авторов Биографии и мемуары - Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников
- Название:Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1936
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов Биографии и мемуары - Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников краткое содержание
lenok555: исправлены очевидные типографские опечатки (за исключением цитат).
Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В г. Леово мы въехали к подполковнику Катасанову, командиру казачьего полка. Он был на кордонах; нас принял адъютант, с ним живший. Было 10 ч. утра. Напившись чаю, мы хотели тотчас выехать, но он нас не отпустил, сказав, что через час будет готов обед. Мы очень легко согласились на это. Потолковали о слухах из Молдавии; через полчаса явилась закуска: икра, балык и ещё кое-что. Довольно уставши, мы выпили по порядочной рюмке водки и напали на соленья; Пушкин был большой охотник до балыка. Обед состоял только из двух блюд: супа и жаркого, но за то вдоволь прекрасного Донского вина. Желание Пушкина выпить кофе удовлетворено быть вскоре не могло, и он был заменён дульчецей. Когда мы уже сели в каруцу, нам подали ещё вина, и хозяин, ехавший верхом, проводил нас за город. Я показал Пушкину Троянов вал, когда мы проезжали через него; он одинаково со мной не разделял мнения, чтобы это был памятник владычества римлян в этих местах. Прошло, конечно, полчаса времени, что мы оставили Леово, как вдруг Александр Сергеевич разразился ужасным хохотом, так, что в начале я подумал, не болезненный ли какой с ним припадок. «Что такое так веселит вас?» спросил я его. Приостановившись немного, он отвечал мне, что заметил ли я, каким образом нас угостили, и опять тот же хохот. Я решительно ничего не понимал и ничего особенного в обеде не заметил. Наконец он объяснил мне, что суп был из куропаток, с крупно-накрошенным картофелем, а жаркое из курицы. «Я люблю казаков за то, что они своеобразничают и не придерживаются во вкусе обще-принятым правилам. У нас, да и у всех, сварили бы суп из курицы, а куропатку бы зажарили, а у них наоборот!» и опять залился хохотом. На этот раз и я смеялся; действительно я не заметил этого, потому ли, что более свычен с причудливым приготовлением в военное время. Пушкин заключил тем, что это однакоже вкусно и впоследствии в Кишинёве сообщил Тардифу. В 9-ть часов вечера, 23-го декабря, мы были дома. Обед этот он никогда не забывал; даже через два года, в Одессе, он припоминал мне об этом.
Здесь нахожу нужным заметить (стр. 1181), что в эту поездку из Кишинёва, через Аккерман, Измаил и Леово, мы не встречали ни одного цыганского табора. Может быть, если только Пушкин ездил вторично между февралём и июлем 1822 года, когда меня не было в Бессарабии, то он мог их встретить в Буджацких степях, которые впрочем редко посещаются таборами: болгарские и немецкие колонии им враждебны. Цыгане снуют более, начиная от Бендер, на север, и их всегда можно было видеть около Кишинёва. Любимое их расположение было за садами малины (так называемая виноградная долина в двух верстах от Кишинёва, куда мы часто ездили в сад отставного израненного егерского поручика Кобылянского, которому Охотников, обязанный жизнию, в одном из сражений 1813 года, кажется, под Герлицем, купил и подарил его). Затем другие таборы располагались у Рышконовки и у Прункуловой мельницы, также под самым Кишинёвом. Но Пушкин их мог очень часто встречать и прежде, нежели был в Бессарабии, а именно в поездку свою с Раевским на Кавказ, в Новороссийском крае: там таборы были часты. Они кочевали от берегов Прута далеко на Восток. Не думаю, чтоб Пушкин до прибытия своего в Бессарабию не имел случая, при своей наблюдательности, изучить их. Пылкое воображение и поэтический дар создали остальное […]
Не только Пушкина, одарённого самым пламенным воображением, но и каждого из нас, внезапно перенёсшегося в край, вовсе не схожий с тем, что мы видели в Европе, должно было занимать всё встречающееся в Кишинёве, особенно в эпоху 1821 года. Впечатления эти несомненно должны были действовать сильнее на молодого поэта, нежели на всех других. Он ловил то, что более его поражало, и мы видим подражание одной из помянутых песен: «жги меня, режь меня» и т. д. Всё это так. [207]
Но мне удивительно, что я не встретил в помянутом исчислении двух современных исторических, народом сложенных песен, которые, как мне близко известно, в особенности занимали Александра Сергеевича. Первая, из Валахии, достигла Кишинёва в августе 1821 года; вторая — в конце того же года. Куплеты из этих песен беспрерывно слышны были на всех улицах, а равно исполнялись и хорами цыганских музыкантов. Кто из бывших тогда в Бессарабии и особенно в Кишинёве не помнит беспрерывных повторений: «Пом, пом, пом помиерами, пом» и «Фронзе верде шалала, Савва Бим-баша?»
Первая из них сложена аллегорически на предательское умерщвление главы пандурского восстания Тодора Владимирески, по распоряжению князя Ипсиланти в окрестностях Тырговиста. [208] Вторая, на такую же предатeльcкyю смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баши-Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться. Бим-баша-Савва, по истреблении гетеристов в Драгошанах, с своими тысячью отборными арнаутами, перешёл, после разгромления Ипсиланти, по приглашению к туркам и присоединился к ним. Но турки, зная его влияние на болгар и не осмеливаясь открыто истребить его, прибегли к хитрости: паша заманил его к себе, под тем предлогом, чтобы надеть на него присланный от султана почётный кафтан. Савва поддался и явился из митрополии, которую он занимал своим отрядом, только с шестьюдесятью всадниками, во двор паши в Букарест, в дом Беллы. Войдя в залу с капитаном Генчу, он был внезапно встречен несколькими пистолетными выстрелами, и труп его немедленно выброшен за окно на улицу. Из конвойных его только трое спаслись и в 1829 году находились у меня в отряде; песня эта не столь аллегорическая как первая, и рассказывает главные эпизоды убийства.
Александр Сергеевич имел перевод этих песен; он приносил их ко мне, с тем, чтобы проверить со слов моего арнаута Георгия. Но в декабре 1823 года, бывши в Одессе, Пушкин сказал мне, что он не знает, куда девались у него эти песни, и просил, чтобы я доставил ему копию с своего перевода; в январе 1824 года, опять приехавши в Одессу, я ему их и передал. Не знаю, как после, но тогда он обходился очень небрежно с лоскутками бумаги, на которых имел обыкновение писать.
Вместе с тем не вижу в собрании его сочинений даже и намёка о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трёх главнейших гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки, преданных Ипсилантием, в числе других, народному проклятию за действие и побег из-под Драгошан, где впрочем и сам Ипсиланти преступно не находился.
Василий Каравия был нежинский грек, очень не глупый и с некоторым образованием; он попал в особенную милость к князю Ипсиланти за варварское убийство мирных турок в Галацах при самом начале гетерийских действий. Пендадека, тоже родом из Нежина, не лишённый ума и очень хитрый. Он был эфором в сброде Ипсиланти, имея чин полковника гетеристов; одно время правил Молдавией (до прибытия князя Георгия Кантакузина, из Тырговист). Дука родом албанец, человек в высшей степени замечательный; он был поверенным в делах Али-паши-Янинского, любимец его, владел независимо от греческого, албанского, валахского языков — италианским (в Албании довольно распространённым) и французским. Долго было бы говорить здесь о его похождениях и о том, как он попал в гетерию. Каравия, Пендадека и Дука были отвержены Кишинёвским греческим обществом; но я не находил нужным делать того же, напротив, как говорится, приголубил их, особенно Дуку и в частых беседах с ним извлекал из него то, что мне было нужно. Пушкин часто встречал их у меня и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними. От них он заимствовал два предания, в несколько приёмов записывал их, и всегда на особенных бумажках. Он уехал в Одессу. Через некоторое время я приехал туда же на несколько дней и, как всегда, остановился в клубном доме у Отона, где основался и Пушкин. Он показал мне составленные повести; но некоторые места в них казались ему не ясными, ибо он просто потерял какой-либо лоскуток и просил меня, чтобы я вновь переспросил Дуку и Пендадеку и выставил бы года лицам, и точно ли они находились тогда в Молдавии. Рассказчики времени не знают. «С прозой беда!» присовокупил он, захохотав. «Хочу попробовать этот первый опыт». Я это исполнил, с дополнением ещё, от случайно в это время ко мне вошедшего Скуфо, также одного из проклятых Ипсилантием, и вскоре передал Пушкину. Месяца через два потом, когда я был в Одессе, Пушкин поспешил мне сказать, что он все сказания привёл в порядок, но не будучи совершенно доволен, отдал прочитать одному доброму приятелю (кажется, Василию Ивановичу Туманскому) и обещал взять от него и показать мне. Он это исполнил на другой день, прочитал сам, прося, если он в чём сбился, и я помню рассказ, то ему заметить. Сколько я помнил, то поправлять слышанное мною было нечего, тем более, что я не постоянно находился, когда ему передавали рассказ. Я нашёл, разумеется, что всё очень хорошо. Предмет повестей вовсе не занимал меня: он не входил в круг моего сборника; но, чтобы польстить Пушкину, я просил позволения переписать и тотчас послал за писарем; на другой день это было окончено. В рукописи Пушкина было уже много переделок другой рукой, и он мне сказал, что в этот вечер опять отдаст оную на пересмотр, что ему самому как-то не нравится. Что сделалось потом, я не знаю, но у меня остались помянутые копии, одна, под заглавием: «Дука, молдавское предание XVII века»; вторая: «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года» […] [209]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: