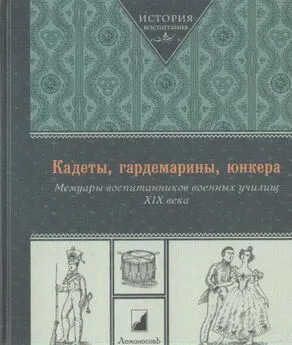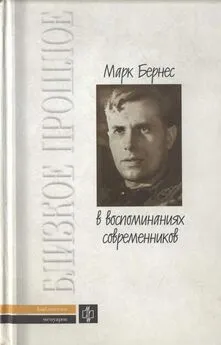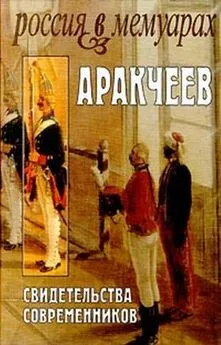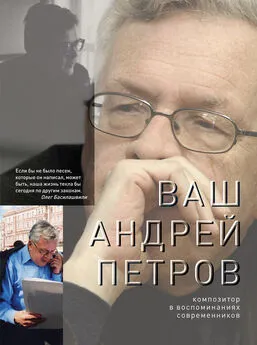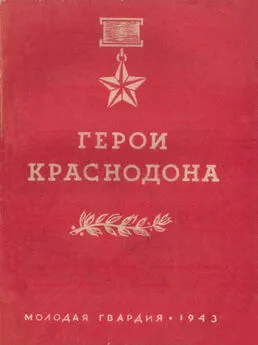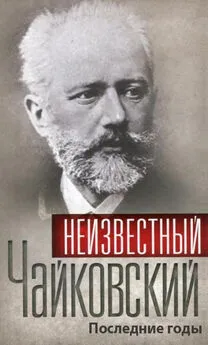Коллектив авторов Биографии и мемуары - Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников
- Название:Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1936
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов Биографии и мемуары - Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников краткое содержание
lenok555: исправлены очевидные типографские опечатки (за исключением цитат).
Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Соч. VIII, 310.
Пушкин спрашивал приехавшего в Москву старого товарища по Лицею про общего приятеля, а также сверстника-лицеиста, отличного мимика и художника по этой части: «А как он теперь лицедействует и что представляет?» — Петербургское наводнение. «И что же?» — Довольно похоже, отвечал тот. Пушкин очень забавлялся этим довольно похоже. [378]
Соч. VIII, 331.
…В 1818 или 1819 г.г. князь Вяземский полушутя сказал Пушкину, что он завидует стихам И. И. Дмитриева. Пушкин вспыхнул и не отвечал тогда ни слова, а отозвался только в 1826 году. Так был он чуток и памятлив.
РА. 1874, кн. I, 434.
Что люди, мне чужие, обвиняли меня в слабости к Дмитриеву и в несправедливости к Крылову, это меня не очень озабочивало и смущало. Я вообще обстрелен: и лишний выстрел со стороны куда не идёт. Но в числе обвинителей моих был и человек мне близкий; суд его был для меня многозначителен и дорог, он мог задирать меня и совесть мою за живое.
Пушкин, ибо речь, разумеется, о нём, не любил Дмитриева, как поэта, то-есть, правильнее сказать, часто не любил его. Скажу откровенно, он был, или бывал сердит на него. По крайней мере, таково мнение моё. Дмитриев, классик, — впрочем и Крылов по своим литературным понятиям был классик, и ещё французский — не очень ласково приветствовал первые опыты Пушкина, а особенно поэму его Руслан и Людмила . Он даже отозвался о ней колко и несправедливо. Вероятно, отзыв этот дошёл до молодого поэта, и тем был он ему чувствительнее, что приговор исходил от судии, который возвышался над рядом обыкновенных судей и которого, в глубине души и дарования своего, Пушкин не мог не уважать. Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним, и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними. В помощь памяти своей, он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдёшь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесённые ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него. Как бы то ни было, споры наши о Дмитриеве часто возобновлялись и, как обыкновенно в спорах бывает, отзывы, суждения, возражения становились всё более и более резки и заносчивы. [379] Были мы оба натуры спорной и друг пред другом ни на шаг отступать не хотели. При задорной перестрелке нашей мы горячились: он всё ниже и ниже унижал Дмитриева; я всё выше и выше поднимал его. Одним словом, оба были мы не правы. Помню, что однажды, в пылу спора, сказал я ему: «да ты, кажется, завидуешь Дмитриеву». Пушкин тут зардел как маков цвет; с выражением глубокого упрёка взглянул он на меня, и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказал: «Как, я завидую Дмитриеву?» Спор наш этим в кончился, то-есть на этот раз, и разговор перешёл к другим предметам, как будто ни в чём не бывало. Но я уверен, что он никогда не забывал и не прощал мне моей неуместной выходки. Если хорошенько порыться в оставленных им по себе бумагах, то вероятно найдётся где-нибудь имя моё с припискою: debet. Нет сомнения, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива. Впрочем, и то сказать, в то время Пушкин не был ещё на той вышине, до которой достигнул позднее. Да и я, вероятно, имел тогда более в виду авторитет, коим пользовался Дмитриев, нежели самое дарование его.
Из всех современников, кажется, Карамзин и Жуковский одни внушали ему безусловное уважение и доверение к их суду. Он по влечению и сознательно подчинялся нравственному и литературному авторитету их. С ними он не считался. До конца видел он в них не совместников, а старших, и так сказать восприемников и наставников. Суждения других, а именно даже образованнейших из Арзамасцев, были ему ни по чём. Со мною любил он спорить: и спорили мы до упаду, до охриплости об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове и о многом прочем и прочем. В последнее время он что-то разлюбил Батюшкова и уверял, что в некоторых стихотворениях его можно было уже предвидеть зародыш болезни, которая позднее постигла и поглотила его. В первых же порах Пушкина, напротив, он сочувствовал ему, и был несколько учеником его, равно как и приятель Пушкина Баратынский. Батюшкова могут ныне не читать, или читают мало; но тем хуже для читателей. А он всё же занимает в поэзии нашей почётное место, которое навсегда за ним останется. Впрочем, с Пушкиным было то хорошо, что предубеждения его были вспышки, недуги не заматерелые, не хронические, а разве острые и мимоходные: они бывало схватят его, но здоровая натура очищала и преодолевала их. Так было и в отношении к Дмитриеву: и как сей последний, позднее и при дальнейших произведениях поэта, совершенно примирился с ним и оказывал ему должное уважение, так и у Пушкина бывали частые перемирия в отношении к Дмитриеву.
Князь Козловский просил Пушкина перевесть одну из сатир Ювенала, которую Козловский почти с начала до конца знал наизусть. Он преследовал Пушкина этим желанием и предложением. Тот, наконец, согласился и стал приготовляться к труду. Однажды приходит он ко мне и говорит: «А знаешь ли, как приготовляюсь я к переводу, заказанному мне Козловским? Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского поэта и английского Попе. Удивляюсь и любуюсь силе и стройности шестистопного стиха его».
Соч. I, 158—161.
В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли. Все эти свойства, или недостатки побудили Пушкина, в тайных заметках своих, обвинять меня в какофонии: уж не слишком ли? Вот отметка его: «Читал сегодня послание кн. Вяземского (видно он сердит, что величает меня княжеством) к Жуковскому (напечатанное в Сыне Отечества 1821 года). Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! Кому был Феб из Русских ласков , — неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофонией». [380]
Воля Пушкина, за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне не слышу какофонии в помянутых стихах. А вот в чём дело: Пушкина рассердил и огорчил я другим стихом из этого послания, а именно тем, в котором говорю, что язык наш рифмами беден . — Как хватило в тебе духа, сказал он мне, сделать такое признание? Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесённое. В некотором отношении был он прав, как один из высших представителей, если не высший, этого языка: оно так. Но прав и я. В доказательство, укажу на самого Пушкина и на Жуковского, которые позднее всё более и более стали писать белыми стихами . Русская рифма и у этих богачей обносилась и затёрлась. Впрочем, не сержусь на Пушкина за посмертный приговор. Где гнев, тут и милость; Пушкин порочит звуки мои , но щедро восхваляет меня за другие свойства: не остаюсь в накладе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: