Александр Шубин - Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года
- Название:Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шубин - Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года краткое содержание
Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Советская система была не только «вечевой демократией», в ней (как, впрочем, и на Новгородском вече) складывалась внутренняя структура, которая со временем могла сделать принятие решений «снизу» более организованным. Важные вопросы предварительно обсуждались на секциях и во фракциях. В Петрограде создавались также районные советы, которые позднее сформировали Межрайонное совещание. Также из делегатов местных советов формировались съезды разного уровня.
Общероссийская система Советов стала складываться на Всероссийском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов 29 марта-3 апреля. На это совещание приехало втрое больше делегатов, чем планировалось. Стало ясно, что нужно упорядочить советскую систему, чтобы она могла нормально работать. В своем организационном докладе совещанию социал-демократ Б. О. Богданов от имени ЦИК предложил не ограничиваться съездами Советов, которые слишком многочисленны, чтобы на них могло быть высказано мнение всех делегатов. К тому же система Советов должна действовать постоянно, а не только во время съездов: «Помимо этого съезда, в качестве постоянно функционирующего учреждения должны быть следующие: на местах образуются областные или районные комитеты, избранные на местных областных или районных совещаниях... Совещание этих областных комитетов совместно с Исполнительным комитетом является вторым органом нашей будущей организации» 538 . Областные комитеты (советы) должны были избираться на конференциях нижестоящих Советов. К октябрю 1917 г. сложилась система Советов на всех уровнях - от волостного до губернского.
В то же время, осознавая недостатки только возникающей советской системы, социалисты не решались отдать ей первенство над парламентом, тем более что выборы в Учредительное собрание должны были стать своего рода революционным плебисцитом по основным вопросам, от которых зависело развитие страны. Для «разового» выявления воли избирателей в условиях революции механизм Учредительного собрания был предпочтителен. За совмещение двух видов демократии выступали и такие коллеги большевиков по коммунистическому движению, как Роза Люксембург 539 , и такие их противники, как Виктор Чернов 540 , лидер наиболее влиятельной политической силы России 1917 г., партии эсеров.
В то же время умеренные социалисты, лидировавшие в Советах до осени 1917 г., осознавали, что органы низового самоуправления не представляют большинства населения. Но, заступаясь за пассивное большинство, пытаясь подвести под государственные решения как можно более широкую социальную базу на выборах в Учредительное собрание, умеренные социалисты рисковали потерять поддержку активного меньшинства населения, от которого в условиях революции зависела судьба власти. В то же время социальные преобразования с опорой на отмобилизованное радикальное меньшинство могли привести к широкомасштабной гражданской войне с теми слоями, интересы которых будут проигнорированы в ходе реформ. Маневрируя между этими Сциллой и Харибдой в течение последующих месяцев, умеренные социалисты вплотную подошли к одной крайности, а большевики - к другой. Но не раз в июне - ноябре 1917 г. возникала ситуация, при которой была возможна и «золотая середина» синтеза самоуправления и общегосударственной демократии.
Революционно-демократические силы, осознававшие невозможность немедленного и радикального выхода из кризиса, но противостоящие реставрации авторитарного режима, были представлены социалистическими партиями, прежде всего Партией социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократами меньшевиками. Весной 1917 г. именно революционно-демократические партии стали лидирующей силой в Советах.
Авторитет этих течений был приобретен ими в годы борьбы с царизмом и укреплялся способностью революционно-демократической интеллигенции убедительно обосновать свою позицию в тот период, когда массы рабочих и солдат еще были готовы «потерпеть» в надежде на относительно быстрый выход из кризиса после революции. В то же время социалисты были тесно связаны с массами и отражали их настроения из-за притока новых членов. В социалистические партии, особенно к овеянным романтической славой эсерам, двинулись массы провинциальной интеллигенции. Летом ПСР насчитывала уже до 800 тыс. членов, в большинстве своем новичков - «мартовских эсеров» (среди которых, впрочем, был и министр Керенский). Быть эсером или социал-демократом-меныневиком считалось демократично, в духе времени, но в то же время и респектабельно, можно сказать - модно.
Отчасти «соглашательская» позиция социалистов была продиктована взглядами марксистов, которые опасались брать власть в условиях, когда придется решать «буржуазные задачи», когда у социалистов еще нет административного опыта и не вернулись из эмиграции и из ссылки наиболее известные вожди. Социалисты были готовы искать компромисс между радикальными массами трудящихся и либералы ными «цензовыми элементами» - состоятельной интеллигенцией и предпринимателями, без которых эффективное функционирование экономики представлялось сомнительным. Именно социалистическая интеллигенция взвалила на себя задачу консолидации общества в тяжелых условиях 1917 года. Разделяя цели радикализированных революцией масс, социалистическая интеллигенция сдерживала их, разъясняя утопизм стремления к немедленному воплощению этих целей в жизнь. Грамотность и социальная близость к народу, «народничество» обеспечивали социалистам сохранение их авторитета даже тогда, когда им приходилось агитировать за непопулярные меры. Но постепенно, по мере затягивания преобразований, этот авторитет таял.
У нового правительства не было прочной опоры в массовых организациях, сотнями возникавших или выходивших из подполья после революции: партиях, профсоюзах, советах. Эту опору могла дать только связка с социалистами. Меры принуждения были невозможны, поскольку войска в столице подчинялись Совету.
Поэтому в принятой Временным правительством 26 апреля декларации говорилось: «В основу государственного управления оно (Временное правительство. - А. Ш.) полагает не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти. Оно ищет опоры не в физической, а в моральной силе» 541 . Но ее было явно недостаточно в условиях, когда обострялись социальные противоречия и представления о добре у «цензовиков» и радикалов из рабочих кварталов были диаметрально противоположны. Так что мораль моралью, а требовалось что-то еще для удержания власти. Необходима была или сила (на что надеялся Милюков и другие правые кадеты), или умение манипулировать политическими партнерами и массовым сознанием (что до поры лучше других умел делать Керенский и другие правые социалисты). Временное правительство не являлось демократическим. Оно не могло быть авторитарным (хотя к этому стремились правые кадеты и Гучков). Оно было манипулятивным. Приходилось осваивать искусство скольжения по волнам социальной революции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

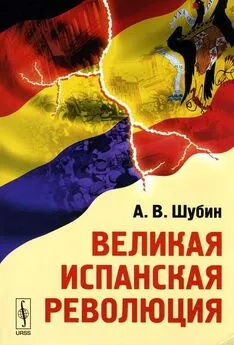

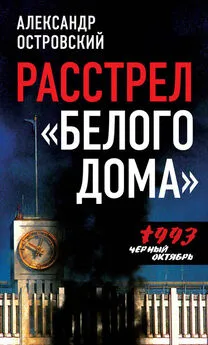
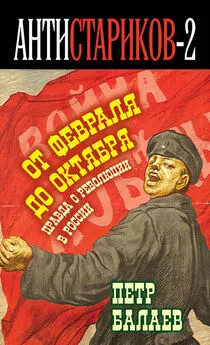
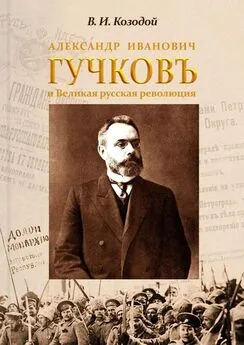
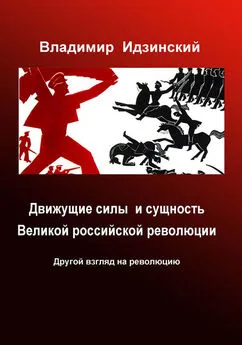
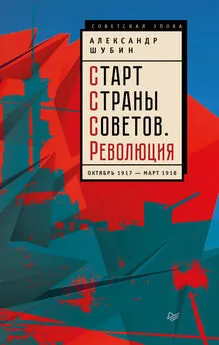
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

