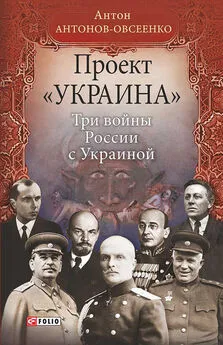Антон Посадский - Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг.
- Название:Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07689-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Посадский - Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг. краткое содержание
Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобным образом обстояло дело и с анархизмом. В 1917–1918 гг. анархизм завоевал значительные позиции в радикальном революционном движении. Известна знаменитая оккупация особняков анархистскими группами в Москве, пресеченная, с перестрелками, в апреле 1918 г. силами ВЧК. Низовой анархизм был следствием желания сельского сообщества отгородиться ото всех нагрузок, которые традиционно накладывало на деревню государство. Интересно, что в партизанско-повстанческом движении в Гражданскую войну просматривались сходные явления в разных регионах. Так, в угольных регионах Донецкого и Кузнецкого бассейнов родились симпатии к анархизму в широких кругах сельского населения, постепенно оставлявшего сельские занятия. Это вылилось в поддержку Махно в одном случае, в анархистские партизанские формирования Рогова и Лубкова — в другом. Проблемой связей и перекличек в анархистском движении в разных регионах России продуктивно занимался А.А. Штырбул.
Массовый анархизм также не имел выраженно партийного лица. Анархизм в массах воспринимался как выражение свободолюбия, нежелания подчиняться государственному насилию. Анархизм как эмоция выступает неизбежным этапом революционного процесса, если ориентироваться на понимание этого процесса П.А. Сорокиным. Таким образом, эмоция анархизма — воли, нежелания вписываться в социальные институты, как традиционные, так и новые, навязываемые новой властью, во многом мотивировала наиболее активный сегмент молодого крестьянства в разных потоках повстанческого движения.
Крестьяне, востребуя лозунги, аргументацию, уровень образования своих партийных городских знакомых, никогда не были целиком ведомы в политических решениях. Наиболее яркий пример — Тамбовское восстание. Союзы трудового крестьянства не были идентичны эсеровским ячейкам, и движение в целом не руководилось эсеровскими структурами. Сам А.С. Антонов ко времени развития массового движения должен быть назван «бывшим эсером». Он сохранил народнический строй мысли, но уже не руководствовался хоть в какой-то мере партийными установками своей когда-то партии. Большевики любили подчеркивать эсеровскую принадлежность всякого рода заговорщиков и врагов нового строя. Правда в этом то, что многие народнически мыслившие люди оказывались в рядах активных противников большевиков. Но часто они уже не были членами работоспособных эсеровских организаций.
Отрывочная информация о небольшевистских партиях в деревне скорее подтверждает соображение о бесконечной мимикрии, с одной стороны, и «классовых» прочтениях врага — с другой. Так, в Керенске «имеется организация революционных коммунистов из восьми активных членов. Председатель — известный богач, левый с.-р., все остальные, за исключением одного, — анархисты, бывшие левые с.-р. Ведут агитацию, пользуются доверием крестьян и приступают к организации волостных ячеек». Коммунист-богач, анархисты из бывших эсеров указывают на то, что деревня успешно отыгрывала легальные возможности выгодных группировок. Еще одно подобное свидетельство: в Чембарском уезде, по недостоверным, правда, данным, обнаружилась организация левых эсеров и меньшевиков (вместе?). Они пользовались популярностью и выступали под лозунгом Учредительного собрания. Разбрасывались прокламации: «Да здравствует Колчак!» Дезертиры устраивали собрания, на которых также присутствовали дезертиры Сердобского уезда Саратовской губернии. Имелась связь с последними и дезертирами в районе Ртищева, а также сношения с Шильциным и Кудряшовым — главарями восстания 1918 г. По недостоверным сведениям, оружием снабжались от чембарского уездного военкома. Организация выступала под лозунгом: «Да здравствует Колчак и его Учредилка!» 609Опять-таки левые эсеры и меньшевики с «Колчаком и его Учредилкой» вяжутся плохо. Очевидно, речь идет либо о весьма основательно испорченном информационном «телефоне», либо об огульном приписывании эсерства и меньшевизма противникам РКП(б). В селе Ивановка Льговского уезда открылась организация правых эсеров во главе с «офицерами и бывшими полковниками Воротниковым, Петуховым, Гетманским и др.» (7 сентября 1919 г) 610. Такое сгущение в одном селе эсеров-полковни-ков вызывает обоснованные сомнения.
На уездном уровне партийная жизнь и борьба были ипостасью местного противостояния или же бытием малодееспособных группок интеллигенции.
Коммунистические же силы в деревне были чрезвычайно малы. 18 мая 1919 г. Калужский губком РКП(б) на расширенном заседании подвел итоги партийной мобилизации. Она прошла с большим успехом во всех уездах губернии. Калужская городская и уездная организации направили на Восточный фронт 100 человек, Козельская — 118, Мосальская — 94, Тарусская — 62, Людиновская — свыше 50 коммунистов. Партийные организации губернии к этому времени послали на Восточный фронт 550 коммунистов. Значительная часть мобилизованных выехала на фронт во второй половине мая 1919 г. «Тихон Ларичев — такова, товарищи читатели, фамилия шкурника, бывшего коммуниста, отказавшегося ехать на фронт и задумавшего еще оправдаться тем, что он в старые времена несколькими комиссиями был освобожден от воинской службы. Запомни же, трус, что для коммуниста нет болезней, если долг требует жертвы!» — клеймила уклониста местная газета. То есть на губернском уровне несколько сотен коммунистов — это максимум, который можно собрать в чрезвычайных обстоятельствах 611.
Ситуация не исправилась даже к концу 1919 г., по итогам победных боев на главных фронтах и победы над агрессивным дезертирством. В протоколах Восьмой конференции РКП(б), состоявшейся в начале декабря 1919 г., сугубо оценочно говорится о примерно 4 тысячах сельских ячеек и ориентировочно 60 тысячах коммунистов в сельских и волостных ячейках. Губкомы и укомы «только в самое последнее время» приступили к работе в деревне, не везде имелись организаторы и т. п. 612
Соответственно, и в зеленом движении искать более или менее организованную единую руководящую партийную руку не имеет смысла. Как раз многочисленные многолюдные зеленовщины 1919 г. служили формой политического участия такого «политического фактора», как крестьянство в целом.
Массовость дезертирства и зеленого движения вызывала внимание разных сторон и в разных жанрах. О зеленых писала пресса, как белая, так и красная. Зеленые, или дезертиры, оказывались в поле агитационного воздействия красных и белых органов пропаганды. О зеленых слышали, читали, размышляли образованные обыватели. Наконец, иногда фиксировалась и рефлексия самих участников «житных полков» и «кустарных батальонов».
Красные активно обращались к дезертирам. Они использовали как агитацию, так и художественные средства. Восьмой съезд РКП(б), провозгласивший поворот к трудовому крестьянству, настойчиво предлагал создавать «богатую сеть народных домов», соединять политическое просвещение с «жизненными задачами крестьянина-земледельца» 613. В красной газетной пропаганде неизменно высмеивались всякие желания и попытки пересидеть войну или создать некоммунистическую крестьянскую власть без «попа и урядника» как недалекие и утопичные. На этом строилась напористая пропаганда, неизменно подкрепляемая угрозой репрессий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: