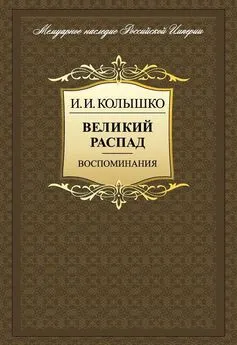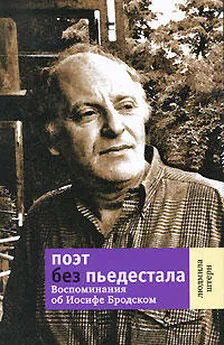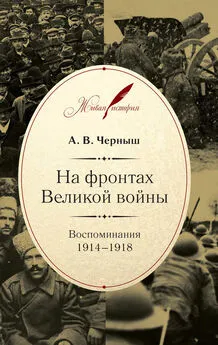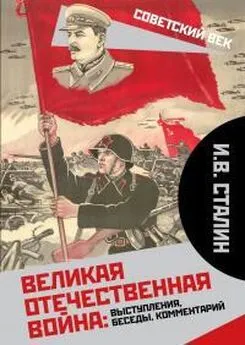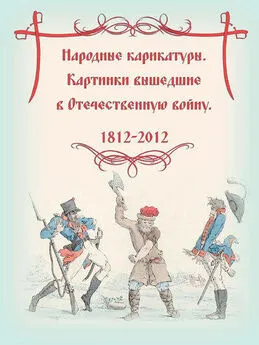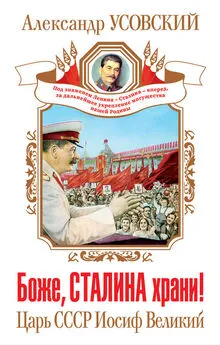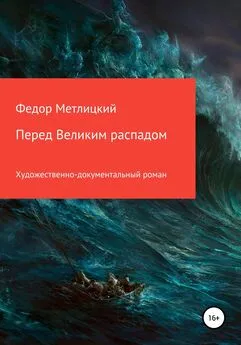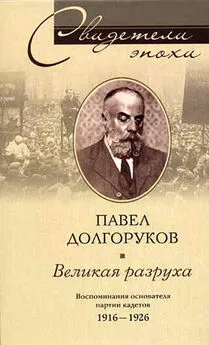Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания
- Название:Великий распад. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-59818-7331-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания краткое содержание
Великий распад. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Быть может, шествие рабочих за справедливостью к царю и не было задумано в «белом доме» на Каменноостровском. Но Витте о нем знал и в предстоявшей свалке умыл руки – сомнения нет. И в роли председателя Комитета министров, и в качестве друга кн[язя] Мирского Витте мог до этой свалки не допустить. Одного его доклада царю было бы для этого достаточно. А влияние его на Тимирязева было таково, что о новой зубатовщине не могло бы быть и речи, если бы того не пожелал Витте. Но он рванулся к Царскому Селу, когда шествие Гапона уже двигалось от Нарвской заставы, а рабочие Выборгской и Петербургской сторон удерживались разобранными на Неве мостами и залпами войск.
В эти трагические для монарха, для Мирского и для истории России минуты, когда люди расстреливались под сенью икон и царских портретов, когда эскадроны конной гвардии и кавалергардов на Невском и Морской свинцом и саблями сметали мирно гулявшую воскресную публику, – в эти минуты бывший и будущий диктатор, меряя огромными шагами свой кабинет, бледный, бормотал:
– Я говорил, я предупреждал…
А во влажном взоре его был тот же пугливый и торжествующий огонек, как и впоследствии, после появления Манифеста 17 октября, когда он грозил расстрелом манифестировавшей, тоже под сенью икон и царских портретов, толпе.
Время после отставки кн[язя] Мирского и назначения Булыгина, когда наконец назрел вопрос о «реформе» и стряпалась булыгинская Дума 393, прошло для Витте оживленно. В эти дни он то вел переговоры с общественными деятелями, стремившимися в «белый дом» в предчувствии его грядущей роли, то с всемогущим в ту пору Треповым. Отношения Витте с этим последним, весьма натянутые в пору влияния Безобразова, теперь стали тесными. Для Витте Трепов стал тем рупором в Царское Село, каким прежде были кн[язь] Мещерский и Оболенский.
Не решаясь лично выступать с взглядами, которые бы противоречили его прежним взглядам (реакционным), Витте толкал в направлении к конституции недалекого в политическом смысле, но рыцарски преданного монарху Трепова.
Чтобы понять затруднительность положения Витте той эпохи, нужно вспомнить, что первым и едва ли не самым убедительным, после Победоносцева, глашатаем антиконституционного направления был он сам. По его заказу молодой профессор Демидовского лицея в Ярославле написал нашумевшую записку «О земстве» 394. Записка доказывала, что выборные учреждения являются преддверием к конституции, и что потому расширение их прав есть расширение пути к конституции. Спрятавшись за этим тезисом, Витте не выявлял себя антиконституционалистом, но давал понять: кто расширяет права самоуправления, тот ведет к конституции.
Всколыхнувшая русскую общественность эта макиавеллическая записка стоила портфеля врагу Витте Горемыкину, собиравшемуся расширить права самоуправления. Витте же поспешил загладить ее впечатление рядом демократических реформ по своему ведомству. Податная инспекция, как противовес земским начальникам, расширение деятельности Крестьянского банка в противовес Дворянскому, страхование рабочих и всяческое покровительство третьему элементу, нашедшему приют в многочисленных учреждениях финансового ведомства, – все эти частичные либеральные реформы затушевали в свое время реакционность Витте.
Но враги его не дремали, и нужна была осторожность. Кроме Трепова, в роли политического рупора Витте выбрал еще среди высшего петербургского общества рупор этический – известного Мишу Стаховича (при Временном правительстве финляндского ген[ерал]-губернатора). С этим великосветским болтуном Витте вырабатывал закон о свободе религиозной совести. Итак, выдвигая вперед то Трепова, то Стаховича, перешептываясь в своем кабинете то с консерваторами, то с либералами, опальный сановник, переступая с правой ноги на левую, подкрадывался к власти.
Японская война подходила к своему позорному концу. На поле сражения Линевич накапливал кулак против японцев, и в недалеком тылу – в Петербурге, в Париже, в Берлине, не говоря уже о Лондоне, накапливали кулак за японцев. Без всякого фигового листа Европа, не исключая и союзной нам Франции, была на стороне Японии 395. Восхищенная беспримерным, воскрешавшим древность, самопожертвованием этого народа, его героизмом, его культурной и технической готовностью к борьбе с великаном, завороженная этим поединком Давида с Голиафом, Европа не скрывала ни своего восхищения Давидом, ни своего разочарования в Голиафе. Впервые со времен Батыя непобедимая Россия была побеждена (Севастополь не в счет). Впервые после подвигов Суворова, Гурко и Скобелева русская рать была сломлена. Тот почти суеверный страх перед русской воинской мощью, что навеял своей личностью и своим «миролюбием» Александр III, был сдунут, как предрассветная пелена. Того и Куроки сорвали с России маску «непобедимости»396, а Куропаткин с русскими министрами обнажили ее почти дореформенную некультурность.
– Мы их иконами – они нас шимозами!
Эта драгомировская концепция русско-японской драмы стала символом не только враждебной правительству России, но и сочувствующей нам Европы. Ее повторяли не только в кабинете Вильгельма II, но и в кабинете нашего «друга» французского министра Далькассе. Престиж России как великой державы рухнул. Вся она, с ее прошлым и будущим, была a la merci [91] В зависимости от (франц.).
Германии. Церемониальным маршем гвардейский корпус пруссаков мог перемахнуть из Берлина в Питер. Даже победа шведов при Нарве не ставила нас в столь критическое положение. Если бы Вильгельму той эпохи шепнули: возврати Франции Эльзас и Лотарингию, Дании – Шлезвиг и компенсируйся за счет балтийских провинций, Польши и Литвы, – Европе был бы обеспечен мир, но Россия укоротилась бы на десяток тысяч квадр[атных] миль и отступила к временам допетровским.
Все это лучше кого бы то ни было знал Витте. Часами, меряя свой кабинет, он это доказывал, воздевая очи к небу, широко крестясь, вздыхая и… лукаво подсмеиваясь. Не забыть этого смешка.
– Но тогда нужно продолжать войну. До последнего солдата, – говорил я, – у Линевича ведь миллионная армия.
– Эх, вы! Дети! Одно спасение – мир! Покуда Вильгельм не очухался от рыцарских чувств. Вильгельм – трус. Я знаю про него такое, что когда узнают все, как бомба взорвется… Заходите ужотко. Расскажу…
Но рассказать не пришлось. Когда в следующий раз я приехал за обещанной тайной Вильгельма, Витте был у своего друга, министра иностранных дел Ламздорфа. Вернулся таким же сияющим, каким я видел его садящимся на коня после убийства Плеве.
– Ну, друг мой, рассказывать некогда. Когда вернусь из Портсмута…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: