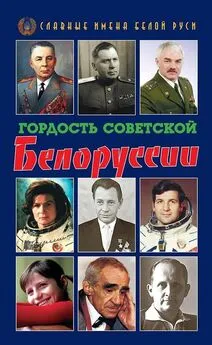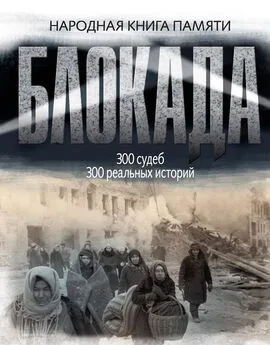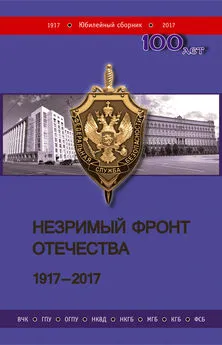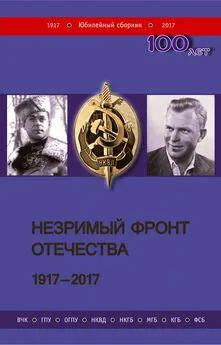Коллектив авторов - Незримый фронт Отечества. 1917–2017 [Книга 1]
- Название:Незримый фронт Отечества. 1917–2017 [Книга 1]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фонд развития конфликтологии
- Год:2019
- ISBN:978-5-9909475-6-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Незримый фронт Отечества. 1917–2017 [Книга 1] краткое содержание
Книга предназначена для широкой аудитории, студенческой молодежи, а также профессионалов — историков, политологов, политиков, и всех тех, кому небезразлична история государственной безопасности нашей страны.
Незримый фронт Отечества. 1917–2017 [Книга 1] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Потому, товарищ политрук, что немцы обстреливают плацдарм за квадратом квадрат, мы это уже приметили, и в окопах налет можно переждать, а по пляжу и по реке бьют без продыху. А нам еще было и до берега-то метров пятьсот, никак не меньше!
— Резонно, младший лейтенант, — улыбнулся Кириллов, — ну, жмите дальше. Лейтенант, доведите, и пусть у нас на ППМ окажут помощь, — кивнул на танкиста. Когда четверо, гуськом и толкаясь, побежали, пригнувшись, вперед, тоже двинулся к Неве и добавил, — какие все же молодцы, политрук! Какие ребята! «Не тащить же, говорит, машины из огня, легче самим переплыть в огонь». Вот наши люди, Сергей… Николаевич, — и вновь помрачнел, — вот кто богу душу здесь отдает под вздохи полковых наших пукалок! Сюда бы сейчас полсотни танков с такими танкистами, тяжелой артиллерии с того берега от бумкомбината, да десяток с неба штурмовиков. Пропахали бы одновременно перед атакой… Прорвали бы мы все к чертовой матери. А то все «каппелевские атаки»… — возмущенно вырвалось продолжение монолога, прерванного танкистами. — Это же годится для экрана, а не для дубровского «пятачка». Понимаю: дан приказ наступать. Любой живой силою, но прорвать. Не останавливаться перед потерями ради цели. Согласен. Надо! Видимо, надо! Но неужели не научили доты под Койвисто? Где опыт Мерецкова и Тимошенко? Ведь их седьмую на перешейке в финскую перемололи, пока не очухались, не подготовились, не пошли железом на железо, броней на броню. Понимаю, что после Жукова генерал Федюнинский, теперь вот Хозин, во что бы то ни стало, хочет к празднику прорвать блокаду, накормить народ, сделать подарок и ленинградцам и Верховному. А здесь до своих, до волховчан, по пятисотке всего каких-то пятнадцать квадратиков. Все вроде правильно. Но потери-то потерям рознь. Здесь уже гибнут, как правило, в глаза не увидев тех, кто вгоняет их в воду и в землю. Не говорю о своем полку, может, я командир бездарный, но вся дивизия, как стало известно, за две недели потеряла пять тысяч из семи, что были даны.
Кириллов помолчал, потом закончил:
— Вы, конечно, можете опять меня счесть пораженцем, и снова вынуть из-за пазухи немецкую пушку, кстати, смените-ка ее на наган. Куда надежнее… Но, дорогой мой политрук, не знаю почему, но вашей совести верю. Вы слишком молоды и, я бы сказал, интеллигентны, что ли, для того чтобы не понять. Да вам и легче информировать верхи-то, нежели мне. Су-бор-ди-на-ция, — растянул по слогам майор. И вдруг, с минуту помолчав, добавил, — все это так, политрук. Все так. Но, если по справедливости, — а где тяжелой-то артиллерии да снарядов в достатке взять сейчас в Ленинграде, а? Говорят, что старые трамвайные рельсы уже на пушки переливают…
— Где же выход, командир? — тихо спросил его особист, давно понявший Кириллова как прямого в суждениях и честнейшего солдата-партийца, как понимал и без последних слов цель этой мучительной «исповеди».
— Выполнять приказ, товарищ Белозеров! Умереть, коли приказано. Вот и весь выход. — И снова вернулся к наболевшему, — ну, полк положить, ну два полка… Отвлечь на себя. Поначалу я, грешным делом, так и подумал. А ныне вижу — плывут дивизии одна за другой и наполовину раков кормят, наполовину заземляются здесь. Где это видано: дивизия за дивизией на две версты! И приказы — не стоять на смерть, не сковывать противника обороной, а наступать! Ежечасно атаковать, брать, прорывать… «примусами» да лимонками. Вчера видел, снова пару танков сюда перетащили. Не успели на горушку от реки поднять, как превратились в железные ящики. Для провианта. Представляете? В полку не хватает сорокапяток! А с какими жертвами их притащили? Почти все расчеты еще на воде богу душу отдали. И это не только у меня, не только у олуха и ослушника майора Кириллова и его комдива Иванова, а у всех. И все идут и идут в атаки. Какой ценой! — У Кириллова судорожно сжались губы. Замечая, что уже не идет, а стоит на берегу, вдруг добавил тихо и словно для себя, возражая себе, — а кто ее определит… — цену на войне? Солдат ее не измеряет. Она ему долгом вписана. В самое сердце… А начнешь рассуждать, как вот я сейчас, — быстро скиснешь. И тогда все! Пиши пропало — нет армии. Сомнут тотчас же и навсегда… На солдатском долге, безропотном и безоглядном, легко сыграть любому бездарю или тщеславному мерзавцу! Да! Но только такой солдат родину и спасет. Такой! Не рассуждающий в тяжелую минуту… Мне вот кажется, что гибнем несправедливо. А какая гибель справедлива? На войне- то? На войне, Сергей Николаевич, только долг и спасает. Долг пред Отчизной. Он все испытывает — правду и неправду. Потому как он выше всех — и нас, и тех, что в тылу о потерях не думают… Заболтался — нервы ни к черту! — с явной досадой, махнув рукой, он, согнувшись, вошел на КП.
Белозеров, привалившись к глине, вытер взмокшую голову, сняв каску. Только успел ее вновь надеть, как в ту же секунду крупный осколок поленом шарахнул по борту каски и с жужжанием ушел. На каске осталась вмятина. Счастливым родился, подумал политрук. Сейчас его таким же осколком сверлила мысль: «Что действительно делать? Он — комполка, член партии с двадцать четвертого, с ленинского призыва, старый кадровый командир. “Выполнять приказ… умереть, коли велено. Вот и весь выход”. И он, безусловно, единственно прав! Как прав и тот не командир полка, а великий полководец России, который сказал, что каждый солдат должен знать свой маневр. Здесь на “пятачке” маневр должно направить к единственной цели — умереть не зря. Хорошо бы и мне найти возможность отдать ее — жизнь свою — тоже подороже, не по-бараньи, с каким-то толком».
Белозеров не сомневался. Он видел и слышал, что большинство окружающих его людей уже верят, убеждены в неизбежности остаться здесь, и, видимо, с этой, уже парадоксально ставшей привычной в этих условиях и отнюдь не панической, а спокойной уверенностью уходит ощущение страха смерти, появляется чувство страха отдать свою жизнь незаметно, бессмысленно, не нанеся ощутимого урона своими руками гитлеровцам.
«Обреченность осознанная, выходит, рождает героизм?» — подумал политрук. «А как же трусы, предатели? Где же трусы, которых все время вспоминает Копалов? Но трусы были. Да, были. Но беда-то была не в них, она была в трусости. Трусость — болезнь, чувство заразное, импульсивное, в большинстве бессознательное, стадное. Тем и опасное. Чтобы вызвать эпидемию, при способствующих условиях довольно одного вирусоносителя. Но вот этого-то носителя и не найти, как правило, когда уже вспышка произошла, когда эпидемия разыгралась. Выявлять его надо раньше. Но всегда ли это было возможно?»
В первых числах ноября после легкого морозца и, казалось, качавшегося в небе солнца, вновь зарядил вначале снег с дождем, затем с острой колючей вьюгой. Брустверы покрылись ледяной коркой. В окопах кашу из песка и снега усердно хлебали передки сапог. А бойцам надо было присесть, прилечь, покемарить минут сто двадцать, хотя бы от атаки до атаки. И снова помогали погибшие братья. Бойцы, где только можно, врубались в стенки, клали на вырубленную ступень в несколько слоев их шинели и ватники, нередко стыдливо приговаривая: «Прости, браток, но что поделаешь. Тебе уж не холодно». Погибшими крепили осыпавшиеся брустверы; их каски, покореженные винтовки втискивали в землю в очень низких местах как опору для промокших ног. Подтаскивали за поясные ремни и убитых немцев. Шутили беззлобно: «А ну-ка, фриц, послужи и нам. Не всего же себя отдавать за бесноватого фюрера. Хватит с него и души твоей». И мог ли кто-либо воспринять такое в тех условиях как кощунство, вандализм, безнравственность? Все, что было субъективно направлено для победы, было морально неподсудно и нравственно в сознании каждого, ибо и самое безнравственное — массовое убийство людей — война превращала в дело славы и доблести.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Коллектив авторов - Незримый фронт Отечества. 1917–2017 [Книга 1]](/books/1078582/kollektiv-avtorov-nezrimyj-front-otechestva-1917-2.webp)