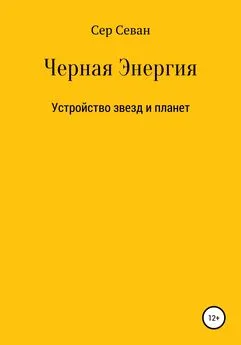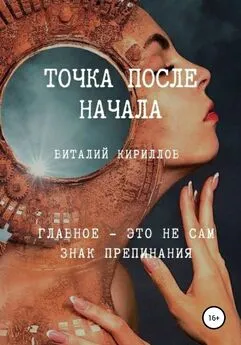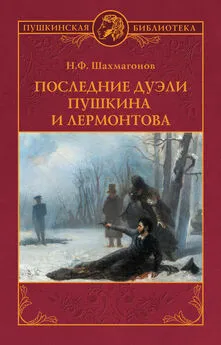Серена Витале - Черная речка. До и после - К истории дуэли Пушкина
- Название:Черная речка. До и после - К истории дуэли Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АОЗТ «Журнал Звезда»
- Год:2000
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7439-0049-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Серена Витале - Черная речка. До и после - К истории дуэли Пушкина краткое содержание
Письма до конца раскрывают характер отношений между Дантесом и Геккереном, что уточняет место обоих в истории последней дуэли поэта, а также проясняют негативную роль в ней Е. Н. Гончаровой. Кроме того, в Приложении нидерландский исследователь Ф. Суассо публикует обнаруженные им в нидерландских архивах материалы о так называемом усыновлении Дантеса Геккереном, проливая свет на неблаговидное поведение Геккерена в этой истории. Из писем возникает картина жизни Петербурга той поры в новом ракурсе — глазами противников Пушкина. Книга иллюстрирована многочисленными портретами и видами Петербурга и снабжена подробным комментарием.
Издание выиграло конкурс «Пушкинист» Института «Открытое Общество» (фонд Дж. Сороса) и осуществлено при поддержке Института Публикация, предисловие и комментарий Перевод с французского Редактор перевода Перевод с нидерландского Редактор Художник
Черная речка. До и после - К истории дуэли Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Можете представить, какое впечатление это произвело во всех салонах, и Литта [45] Граф Юлий Помпеевич Литта (1763—1839) — обер-камергер двора, член Государственного Совета. Ему по придворной службе был подчинён в числе других и Пушкин, за которого он порою также заступался.
тотчас же стал ходатайствовать о позволении ей уехать в Италию, но император поначалу воспротивился и намеревался повелеть ей отправляться в провинцию, однако она так плакала у Бенкендорфа [46] Граф Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844) —генерал-адъютант, шеф жандармов, начальник III отделения Его Императорского Величества канцелярии.
, а Литта так за неё ручался, что император позволил ей уехать, что она и сделает через полтора месяца. Что до меня, я этим расстроен, она очень приятная особа, и я, хоть и не бывал у неё в доме, часто с нею виделся; скажу вам, что я почёл за лучшее не бывать там, раз император так решительно высказался против тех, кто запросто посещал этот дом.
Сию минуту слуга привёз мне из города ваше письмо, датированное 30 июля. Оказывается, Геверс получил его ещё пять дней назад; право же, его превосходительство после приезда принца совершенно потерял голову и думает только, как бы умчаться в Петергоф. Ведь и последнее ваше письмо он тоже продержал 3 дня. Будьте покойны — вернётся, и я возьмусь его проучить.
Уже не раз хотел я сообщить, что ваши письма ко мне вскрывают; то же было и с последним, разве что вы воспользовались вместо печатки большим пальцем, но едва ли это возможно. Печать была изуродована до неузнаваемости, это и возбудило мои подозрения, я же знаю, насколько вы аккуратны и подобный способ запечатывать письма отнюдь не походит на вас. Если мои предположения основательны, надо бы узнать, откуда это идёт, и по возможности воспротивиться.
Геверс был в министерстве иностранных дел, где ему сказали, что прибыла только посылка на адрес графини Нессельроде [47] Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, урожд. графиня Гурьева (1786—1849) — жена министра иностранных дел графа К.В. Нессельроде. Семейство Нессельроде принадлежало к ближайшему окружению Геккерена и Дантеса, было враждебно Пушкину, который отвечал им тем же. Александр II назвал М. Д. Нессельроде автором анонимных писем поэту. По линии матери Дантес даже состоял в отдалённом родстве с семейством Нессельроде. [Возврат к примечанию [171] ]
. Поверьте, я совершенно несчастен из-за того, что у меня нет белья. Передайте папе и сёстрам, что я не пишу им, потому что мне нечего им рассказать: всё, что я мог бы написать, они узнают от вас, так оно даже лучше; скажите ещё, что я сердечно их обнимаю. Ну а вас, вы знаете, я в воображении обнимаю так же крепко, как люблю.
Всецело ваш
Дантес
Скажите Альфонсу, пусть покажет вам моё последнее пылкое увлечение, а вы напишете, хорош ли мой вкус и разве не возможно из-за юной девушки забыть о правиле, гласящем, что всегда следует обращаться только к замужним женщинам.
О балах на Водах пишет и Екатерина Николаевна Гончарова в письме брату Дмитрию от 22 июля того же 1835 года: «У нас теперь каждую неделю балы на водах в Новой Деревне. Это очень красиво. В первый раз мне там было очень весело, так как я ни на одну минуту не покидала площадку для танцев, но вчера я прокляла все балы на свете и всё, что с этим связано: за весь вечер я не сделала ни шагу, словом, это был один из тех несчастных дней, когда клянёшься себе никогда не приходить на бал из-за скуки, которую там испытала».
В том же письме упоминается и демидовский бал: «17 числа мы были в Стрельне, где мы переоделись, чтобы отправиться к Демидову, который давал бал в двух верстах оттуда, в бывшем поместье княгини Шаховской. Этот праздник, на который было истрачено 400 тысяч рублей, был самым неудавшимся: все, начиная со двора, там ужасно скучали, кавалеров не хватало, а это совершенно невероятная вещь в Петербурге, и потом, этого бедного Демидова так невероятно ограбили, один ужин стоил 40 тысяч, а был самый плохой, какой только можно себе представить; мороженое стоило 30 тысяч, а старые канделябры, которые тысячу лет валялись у Гамбса на чердаке, были куплены за 14 тысяч рублей, в общем, это ужас что стоил этот праздник и как там было скучно». (См.: Вокруг Пушкина. С. 217.) Пушкин также был участником этого праздника, а значит, был и в Стрельне, сопровождая жену и своячениц. На такой праздник сёстры выехать одни никак не могли по всем писаным и неписаным правилам. Кроме того, сохранилось несомненное свидетельство пребывания Пушкина на этом празднике — запись рукою поэта на книге Кольриджа из его библиотеки «Образцы застольных бесед…» (Лондон, 1835, на англ, яз.): «Купл. 17 июля 1835 года, день Демид. праздн. в годовщину его смерти». (Рукою Пушкина. Изд. 2, переработанное. // Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 17, дополнительный. М., 1997. С. 577—578.)
Описание Графской Славянки встречается и в письмах родителей Пушкина дочери Ольге. Жившие в это лето на даче в соседнем Павловске, они ездили осматривать имение гр. Самойловой и остались от него в восхищении. С.Л. Пушкин писал дочери 12 июля 1835 г.: «Несколько дней тому назад я ездил с Измайловыми осматривать в Славянке дворец графини Самойловой. Это — сокровище; невозможно представить себе ничего более элегантного в смысле мебелей и всевозможных украшений. Архитектором и декоратором является Брюлов. Все ходят смотреть это, точно в Эрмитаж. Ванная комната её вся розовая, и волшебством цветного стекла, заменяющего окно, все там кажутся светло-розовыми, и сад и Небо чрез это стекло приобретает бесподобную окраску, а воздух кажется воспламенённым. Говорят, это напоминает Небо Италии, — признаюсь, у меня от него заболели глаза, и когда я оттуда вышел, мне всё, в течение трёх или четырёх минут, представлялось зелёным». (См.: Письма С.Л. и Н.О. Пушкиных к их дочери О.С. Павлищевой. 1825—1835. СПб., 1993. С.290.)
В свою очередь Ольга Сергеевна, в Славянке не бывавшая, по петербургским толкам, как и Дантес, который счёл благоразумным не ездить к графине Самойловой, сообщала об этом празднике своему мужу в Варшаву. В описаниях Дантеса и О.С. Павлищевой можно отметить много общего. Ольга Сергеевна писала 12 сентября 1835 года: «Кстати, о новостях: Его Величество разрешил графине Самойловой удалиться при условии не появляться ни в Москве, ни в Петербурге. Недавно она вздумала устроить деревенский праздник в своей Славянке, наподобие праздника в Белом Доме Поль де Кока; поставили шест с призами — на нём висел сарафан и повойник: представьте себе, что приз получила баба 45 лет, толстая и некрасивая! Это очень развлекло графиню, как вы можете себе представить, и всё её общество, но муж героини поколотил её и всё побросал в костёр. Ты осрамила себя и меня на целый век, вот тебе и сарафан, и повойник! Тогда графиня велела дать ей другой и приказала носить его как награду за ловкость. Говорят, что офицеры, которые явились без позволения на этот праздник, назавтра были под арестом». (Письма О.С. Павлищевой к мужу и к отцу. 1831—1837. СПб., 1994. С. 107.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
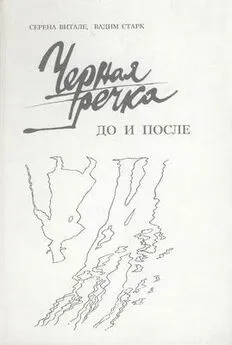
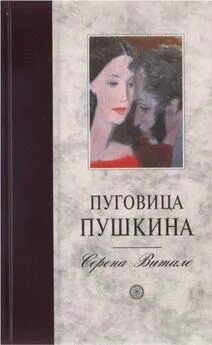
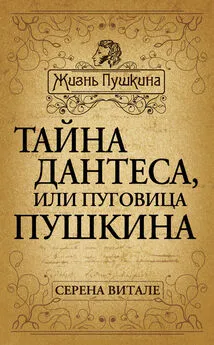
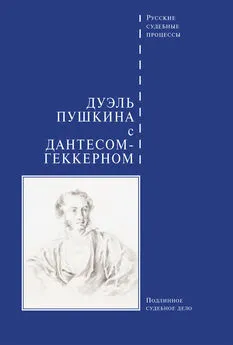
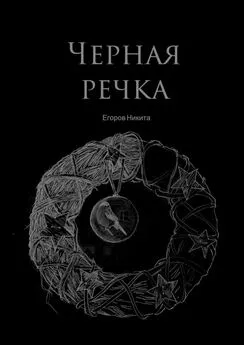
![Александр Александров - Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина]](/books/1071719/aleksandr-aleksandrov-izvestnyj-anonim-poslednyaya.webp)