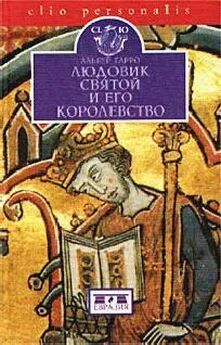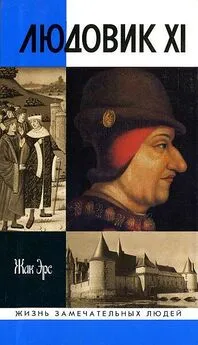Жак Ле Гофф - Людовик IX Святой
- Название:Людовик IX Святой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Научно-издательский центр Ладомир
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-86218-390-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Ле Гофф - Людовик IX Святой краткое содержание
Людовик IX Святой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Средневековый пример — это «короткий рассказ, преподнесенный как достоверный и предназначенный для включения в дискурс (обычно в проповедь), чтобы убедить аудиторию посредством спасительного нравоучения» [591]. Одна из задач этого рассказа — привлечь внимание слушателей своей занимательностью или необычайностью, — это риторический прием, назидательная история. Поскольку нравоучения примеров были направлены на спасение души слушателя, то средневековый пример вполне можно назвать «эсхатологической забавой» [592].
Пример вносит в проповедь реалистический и занимательный характер повествования, порывающего с манерой изложения, свойственной проповеди, и, вероятно, устанавливает незримое взаимодействие проповедника и его аудитории. Но не следует заблуждаться: будучи не инородным телом, не изолированной частью проповеди, пример связан со всеми прочими аргументами, и, врываясь в них, чтобы тут же отступить, он усиливает идеологическую функцию проповеди, слова авторитета [593].
Нередко близкий к народной сказке, одному из его источников или форм воплощения, пример тоже выводит какого-нибудь героя, которым может быть, как в басне, и животное. Античный пример нередко черпал свою привлекательную силу в том, что предметом истории часто был как раз герой, являвший собою живой пример, а слова и действия героя служили назиданием. Унаследовав пример вместе с другими формами античной культуры, христиане были не прочь связать его с великими христианскими моделями Священной истории, с Иисусом, моделью par excellence , с Девой Марией, с персонажами Ветхого Завета. Средневековье не сохранило такой тип примера , разделив литературу примеров и Священную историю и исключив коронованных особ и библейских героев из этих небольших историй.
Естественно, средневековый пример не был расположен к тому, чтобы включать в себя исторические лица. Прежде всего, обращаясь ко всем христианам, он предпочитал выводить на сцену «обычного» человека, заурядного по его делам и поступкам, и сборники примеров вполне можно было бы назвать «библией повседневности». Далее, поскольку пример имел тенденцию объективировать анекдот, то есть лишать героя его статуса субъекта, превращая его в объект, в простое орудие нравоучения, передаваемого с помощью рассказа, то само это нравоучение становилось субъектом истории. Исторический персонаж в средневековом примере — часто не больше чем подставное лицо, неразрывно связанное с «идеологической функцией проповеди» и поглощенное тем, чему он служит.
Впрочем, поскольку жития святых и великих людей, как правило, сочиняются как серии поучительных анекдотов и, за редкими исключениями, чудес (но чудеса разительно отличаются от примеров , образуя совершенно особый жанр), то собиратель примеров или проповедник порою не могли удержаться и переводили фрагмент жития ( vita ) в статус примера . И сделать это было еще соблазнительнее, если героем жития выступало известное лицо. И тогда примеру обычно выводивший на сцену анонимного, безликого христианина, превращался в героический или личный пример . Его можно было бы даже назвать «биографическим» примером : он вышел из жития, и «его структура была изначально структурой жития» у но анекдот в этом случае был заимствован из биографии исторического персонажа [594].
Добавим, что пример чаще всего использует отрицательные примеры , дабы отвратить христианина от греха, и потому представленные в них исторические персонажи — это злодеи. Излюбленными героями примеров стали короли-злодеи, Теодорих или Карл Мартелл (приравненный к королю), преследовавшие католиков и Церковь и, по устной традиции, попавшие в ад. В то же время в XIII веке французские короли порой становились героями анекдотов, передававшихся из уст в уста, и изредка попадали в сборники примеров . И кажется, первым их героем стал не кто иной, как давший повод для кривотолков король Филипп Август [595].
Если Людовик Святой по своим добродетелям и благодаря распространенным назидательным анекдотам о нем потенциально годился для примеров то, как это ни парадоксально, по причине самой своей святости, о которой сначала догадывались и которую впоследствии официально провозгласили, оказался неподходящим героем для примеров . Почитавшийся святым, он не вел достойный осуждения образ жизни и не мог служить негативным образцом для «примера». Став святым, он исчез из этого жанра, заняв место в житиях и чудесах.
И все же нам известны примеры , героем которых выступает Людовик Святой. Их не так много, если исключить те анекдоты, в которых на него ссылаются для датировки какой-либо истории «во времена короля Людовика» и для придания ей большей достоверности. Но в целом они проливают свет и на образ Людовика Святого, и на процесс его меморизации.
Вот два примера из трактата, созданного для проповедников доминиканцем Этьеном де Бурбоном, жизнь и деятельность которого после учебы в Париже прошла в монастыре проповедников в Лионе: трактат был написан им незадолго до смерти, где-то между 1250 и 1261 годами [596]. Он умер раньше Людовика Святого и свидетельствует о быстром превращении бытовавших анекдотов в примеры еще при жизни короля. Первый в этом сочинении, посвященном Дарам Духа Святого , является иллюстрацией «третьего заголовка» пятой части, о даре здравого суждения ( donum consilii ). Речь идет о силе ( de fortitudine ), которая поддерживает дар здравомыслия ( consilium ), помогающего человеку избрать обеспечивающие спасение души добродетели. Среди средств, укрепляющих эту силу, — милостыня, приносимая из любви к Богу ( elemosina data pro Deo ). Вот «положительный» пример , героем которого выступает юный Людовик Святой.
Король Людовик Французский, тот самый, что ныне правит, сказал однажды замечательные слова, переданные одним монахом, который был там и сам все слышал. Когда этот государь был совсем юн, как-то утром во дворе его дворца собралось множество бедняков в ожидании подаяния. Воспользовавшись тем, что все еще спали, он вышел из своих покоев в костюме оруженосца и в сопровождении слуги, который нес значительную сумму денье; затем он принялся собственноручно все раздавать, особенно щедро одаривая тех, кто казался ему самым убогим. После этого он направился к себе, но монах, наблюдавший всю эту сцену из окна, у которого он беседовал с матерью короля, вышел ему навстречу и сказал: «Сеньор, я прекрасно видел ваш неблаговидный поступок». «Мой любезный брат, — ответил, смутившись, государь, — эти люди — мои наемники; они сражаются за меня с моими противниками и блюдут мир в королевстве. Я еще не заплатил им всего, что должен» [597].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: