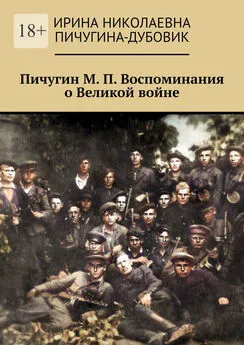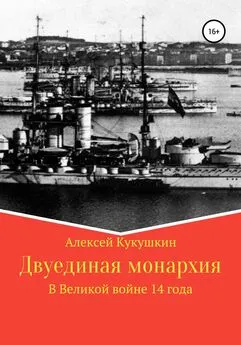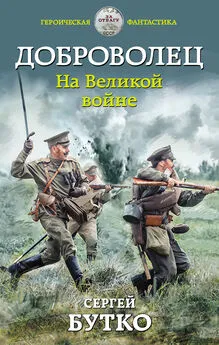Мира Радоевич - Сербия в Великой войне 1914 – 1918 гг
- Название:Сербия в Великой войне 1914 – 1918 гг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Српска књижевна задруга
- Год:2014
- Город:Белград
- ISBN:978-86-379-1275-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мира Радоевич - Сербия в Великой войне 1914 – 1918 гг краткое содержание
Сербия в Великой войне 1914 – 1918 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Австро-Венгрия в доставшейся ей части Сербии создавала отдельную территориально-административную единицу, возглавляемую военным губернатором и разделенную на двенадцать округов, в которых высшая власть принадлежала окружным комендантам, и город Белград [339]. В процессе установления власти столкнулись австрийские и венгерские интересы, так как обе стороны хотели преимуществ для себя. Венгры, например, требовали, чтобы им досталось управление гражданскими делами, что они обосновывали наличием общей границы. По этой причине при военном генеральном губернаторе была учреждена должность помощника, то есть гражданского комиссара, которую занимал высший чиновник — венгр по национальности.
Действия оккупационных властей основывались на принципе, что Сербию следует разорить. Управление оккупированной территорией осуществлялось посредством распоряжений, а не закона. Национальные учреждения были упразднены. Официальная переписка с оккупационными властями велась исключительно латиницей, а в официальных актах, приказах, постановлениях, предписаниях, уведомлениях и переписке проводилась хорватизация сербского языка. Чиновникам в инструкциях приказывалось действовать сурово, «чтобы сербство было сломлено и его сила уничтожена на как можно более длительное время». Военным оккупационным властям рекомендовалось «самой твердой рукой» и с «беспощадной строгостью» подавлять любое сопротивление и возмущение. С этой целью массово применялись денежные штрафы, реквизиции, телесные наказания, власти не гнушались и смертных казней. Такие же методы работы применялись и во всех делах эксплуатации. Трудовая повинность и принудительные работы стали обязательными. Сербские деньги обесценились на 50 %, что тоже являлось частью уничтожения национальной экономики. Сберегательные вклады и ценные бумаги были изъяты. Согласно инструкциям, представителей интеллигенции, элиты следовало уничтожить или, если они находилась в эмиграции, любыми способами препятствовать возвращению. Передвижение населения было ограничено. Драконовские наказания, безжалостная эксплуатация и материальное истощение до крайнего предела стали основными признаками австро-венгерской оккупационной власти в Сербии. А одновременно шла работа по инкорпорированию Черногории в состав Монархии [340].
Чтобы предотвратить возможное сопротивление, обеспечить надежную экономическую эксплуатацию и реализацию планов по долгосрочному владению захваченными территориями, граждан Сербии подвергали запугиванию, притеснениям, наказаниям, взятию в заложники и интернированию. Из Сербии нужно было удалить всех оставшихся мужчин в возрасте от 17 до 55 лет, способных к военной службе. Для чего по всей Монархии — в Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, — а затем и в Болгарии. создавались лагеря для сербов из Сербии, Хорватии, Воеводины, Боснии и Герцеговины. Из них самыми большими и пользующимися дурной славой были Арад, Ашах, Браунау, Кечкемет, Вац, Дрозендорф, Цегед, Дженджеш Наджмеджер, Маутхаузен, Болдогасань, Рабс, Нежидер, Карлштайн… Только на территории Хорватии, Воеводины и Боснии и Герцеговины имелось около двух десятков временных (сборных) и стационарных лагерей. Жизнь в них была очень тяжелой, поскольку интернированных пытали, принуждали к изнурительному физическому труду, очень плохо кормили, отказывали в медицинской помощи, за малейшую провинность убивали… [341]. Смертность была настолько высокой что из лагеря в Араде домой вернулись лишь около 20 % интернированных. По существующим оценкам, число интернированных гражданских лиц колебалось между 150 000 и 200 000. В конце 1916 года на территории, оккупированной Австро-Венгрией, осталось почти на полмиллиона жителей меньше, чем перед началом войны (около 26 %) [342].
Частью той же политики было и разжигание разного рода столкновений, нетерпимости и ненависти среди населения. Промышленные предприятия, банки и торговля специальным декретом были переданы в руки военных органов. Была введена монополия на значительный ряд товаров. Все, что реквизировалось у населения, вывозилось в Монархию. Рынок Сербии открылся для австро-венгерских торговцев. Власти не заботились об организации снабжения, поэтому голод начал опустошать разрушенную и изнуренную Сербию, взимая свою дань. Дневные нормы продовольствия на жителя уменьшались из месяца в месяц, из-за чего Сербия стала походить на один огромный лагерь для изнурения голодом. По имеющимся данным, от голода до сентября 1917 умерло более 8 000 человек.
Культурные сокровища тоже стали военной добычей; они бессовестно раскрадывались и растаскивались, систематически вывозились в Вену и другие австро-венгерские города. Университетские библиотеки были разграблены различные учебные пособия изъяты; аналогично и все остававшиеся служебные архивы правительственных учреждений, министерств и политических партий. Австрийцы особый интерес проявляли к документам различных довоенных патриотических организаций и объединений. Ограблены были также ризницы монастырей Дечаны, Раваница и Манасия. Из Призрена забран « Законник царя Душана ». Часть этих ценностей бесследно исчезла, и все послевоенные попытки вернуть их законным владельцам оказались безуспешными. В школах было запрещено использование кириллицы как письма, которое считалось частью сербской национальной идентичности. Помимо использования латиницы, обязательным стало изучение немецкого и венгерского языков. Педагогические кадры заменялись, в некоторых случаях даже австро-венгерскими унтер-офицерами (капралами). Тем не менее, Австро-Венгрия преподносила всю работу оккупационных властей в Сербии как «цивилизаторскую».
Оккупационные власти собрали группу немногочисленных довоенных австрофилов, среди которых оказались некоторые бывшие министры, видные юристы, университетские профессора и промышленники. Из их числа был сформирован Муниципальный совет города Белграда — орган, который носил декоративный характер, поскольку он не решал важных и политических вопросов. Отношение оккупационных властей к сербским австрофилам было весьма надменным. Это еще больше подрывало авторитет как самих австрофилов, так и учреждения, которое они представляли.
Во главе оккупационных областей, которые сформировала Болгария, стоял военный губернатор, а власть принадлежала исключительно болгарам. Весь чиновничий аппарат прибыл из Болгарии, а сербское население могло участвовать в управлении только на уровне сельских общин. С заданием проводить болгаризацию были присланы и болгарские учителя. В школах, обязательных для сербских детей, обучение велось исключительно на болгарском языке. Болгарской пропаганде было подчинено прежде всего преподавание истории и географии. Ученые получили задачу «доказать» этническую, языковую, историческую и географическую принадлежность «болгарского Поморавья» и Македонии к матице Болгарии, а работники просвещения — преподавать это в школах. Пропагандистские функции выполняли пресса и те учреждения культуры, которым разрешена было работать. Под угрозой оказались национальное сознание и самоидентификация сербского народа. Для того, чтобы сербскую интеллигенцию уничтожить, арестовывались местные учителя и профессора, священники, чиновники и политики. Многие из них были сразу же казнены, чаще всего очень жестоким способом. С этой точки зрения болгарская оккупация была более жестока, нежели австрийская. поскольку ею злодеяния совершались постоянно и в больших масштабах. Еще во время войны обирали сведения о совершенных злодеяниях и систематических нарушениях прав человека, сербские власти обратились за помощью к Международным гуманитарным организациям, отчеты которых подтверждали истинность утверждений сербов. Только во Враньском округе за первый год оккупации было убито около 3 500 человек. а в Суpдулице и окрестностях около 2 500. Жестокому террору, а часто и истреблению подвергались целые семьи. По данным Международной анкетной Комиссии, была убито более ста священников [343].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
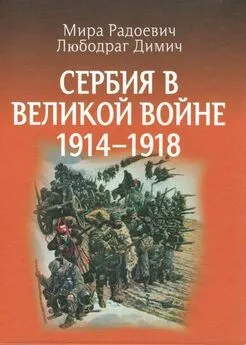

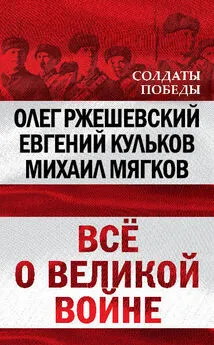
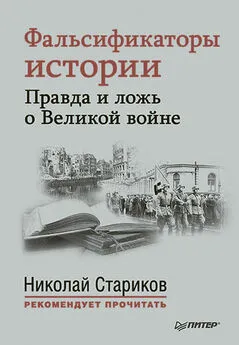
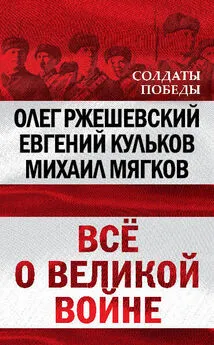
![Сергей Бутко - Доброволец. На Великой войне [litres]](/books/1074592/sergej-butko-dobrovolec-na-velikoj-vojne-litres.webp)