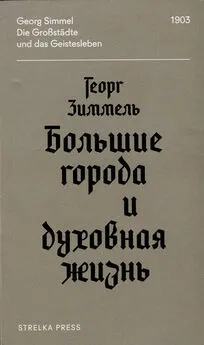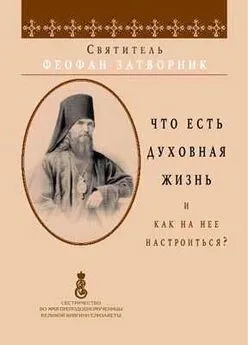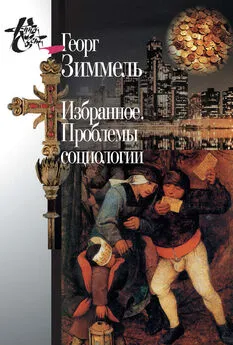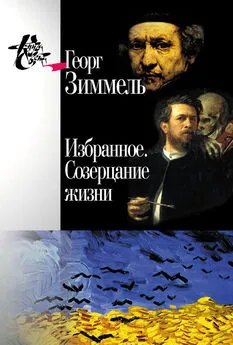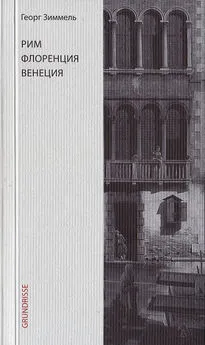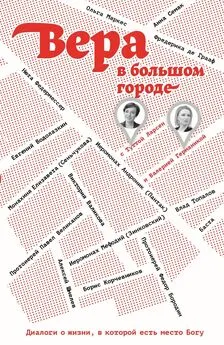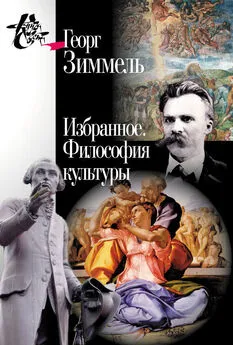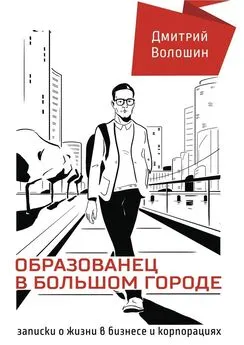Георг Зиммель - Большие города и духовная жизнь
- Название:Большие города и духовная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Strelka Press
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:9785906264831
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георг Зиммель - Большие города и духовная жизнь краткое содержание
Большие города и духовная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Упомянутая замкнутость с обертоном скрытого стремления к избеганию представляется, опять же, одной из форм или одним из обличий гораздо более общей духовной сущности большого города. Дело в том, что она обеспечивает индивиду личную свободу такого рода и в таком количестве, каким в иных условиях просто не найдется равных. Соответственно, она объясняется одной из великих тенденций развития общественной жизни в целом — одной из тех немногих тенденций, для которых можно подобрать хотя бы приблизительно универсальную формулу. Самая ранняя стадия социальных связей, будь то историческая или формирующаяся в настоящее время, — это относительно небольшой круг, резко ограниченных от соседних, чужих или в каком бы то ни было смысле антагонистических кругов, но зато тем более тесный внутри и предоставляющий каждому отдельному члену лишь незначительное пространство для раскрытия его своеобразных качеств и для свободных действий, при которых тот сам отвечает за себя .Так возникают политические и семейные группы, партийные организации, религиозные общины. Чтобы только что возникшие объединения могли сохраниться, им необходимы строгое отграничение и центростремительное единство, поэтому за индивидом не могут быть признаны ни свобода, ни особость внутреннего и внешнего развития. После этой стадии социальная эволюция идет параллельно по двум направлениям — различным, но соответствующим друг другу. В той мере, в какой группа растет — количественно, пространственно, в плане значимости и содержательности своей жизни, — ровно в той же мере становится менее жестким ее непосредственное внутреннее единение, резкость изначального отграничения от других смягчается взаимосвязями и контактами, а одновременно индивид приобретает свободу движений, выходящую далеко за пределы, изначально поставленные ему первыми, ревнивыми ограничениями; он приобретает своеобразие и особость, возможность и необходимость которых вызываются разделением труда в увеличившейся группе. По этой формуле развивались государство и христианство, цехи и политические партии, а также бесчисленные другие группы. При этом, естественно, особые условия и силы в отдельных случаях модифицируют общую схему, однако мне кажется, что она отчетливо просматривается в развитии индивидуальности в условиях городской жизни. Жизнь античного или средневекового малого города накладывала на индивида — в том, что касалось передвижения или установления связей вовне, а также самостоятельности и дифференциации внутри, — такие ограничения, при которых современных человек не смог бы дышать. И по сей день житель большого города, попав в маленький городок, испытывает такое же (хотя бы по природе) стеснение свободы. Чем уже тот круг, который образует нашу жизненную среду, чем более скудны наши связи с другими, размывающие границы этого круга, тем боязливее он следит за тем, что каждый из нас делает, какой образ жизни ведет, какой образ мыслей имеет, и тем больше вероятность , что количественное или качественное отличие эти границы разрушит.
В этом отношении античный полис, судя по всему, обладал природой маленького города. Непрерывная угроза его существованию со стороны далеких и близких врагов обусловливала высокую сплоченность его жителей в политическом и военном отношении; один гражданин надзирал за другим, а коллектив ревниво взирал на индивида, чья частная жизнь была вследствие этого затеснена до такой степени, которую он мог компенсировать разве что деспотизмом по отношению к собственным домочадцам. Необычайная оживленность и возбужденность афинской жизни, ее уникальное многоцветие объясняются, возможно, тем, что народ, состоявший из крайне индивидуальных по своей натуре личностей, боролся с постоянным внутренним и внешним давлением деиндивидуализирующего малого города. Это порождало атмосферу напряженности, в которой более слабых подавляли, а сильных подстрекали к самым страстным демонстрациям своей гражданской самостоятельности. Именно благодаря этому в Афинах достигло расцвета то, что мы, не будучи в состоянии точно обрисовать, в духовном развитии нашего вида вынуждены назвать «общечеловеческим», ибо взаимосвязь, фактическая и историческая действительность которой здесь утверждается, состоит в следующем: самые широкие и самые общие содержания и формы жизни внутренне связаны с самыми индивидуальными; и для тех и для других общей предварительной фразой или общим противником выступают тесные образования или группировки, которые ради самосохранения борются в равной мере и со всем широким и общим вне себя, и со всем свободно движущимся и индивидуальным внутри себя. Как в феодальную эпоху «свободным» был тот человек, который находился под юрисдикцией государства, то есть подчинялся праву самой крупной социальной группы, а «несвободным» — тот, кто находился под юрисдикцией лишь одного небольшого феодального образования, а общегосударственному праву не подчинялся, так ныне, в духовном и утонченном смысле, житель большого города «свободен» в противоположность жителю маленького города, который стеснен всякими предрассудками и мелочными требованиями. Ведь индифферентность и замкнутость по отношению друг к другу — духовные условия жизни больших групп — обеспечивают индивиду независимость, и этот их эффект нигде не ощущается так сильно, как в самой плотной толчее большого города, потому что именно телесная близость и теснота как раз и делают особенно заметной духовную дистанцию. Очевидно, что если человек нигде не чувствует себя таким одиноким и покинутым, как в сутолоке большого города, то это лишь оборотная сторона этой свободы; ведь и здесь, и повсюду совершенно необязательно отражением свободы человека в его чувственной жизни является комфортное самоощущение.
Не только сам размер территории и численность населения делают большой город средоточием личной, внутренне-внешней свободы (поскольку между нею и увеличением социального образования во всемирной истории существует корреляция): эффект больших городов распространяется и за их зримые пределы, превращая их в средоточия космополитизма. Как капитал по достижении определенного размера обыкновенно начинает расти все быстрее и как бы сам собою, так и кругозор, и экономические, личные, духовные связи города, его умственные рубежи начинают разрастаться, словно в геометрической прогрессии, как только оказывается преодолена некая граница; каждое достигнутое динамическое расширение их превращается в ступень, с которой начинается не такое же, а еще большее следующее расширение, и к каждой нити, которая из него сплетается, словно сами собой прирастают все новые и новые нити — точно так же как и внутри города происходит не связанное с вложением труда повышение ценности земельного имущества, когда арендная плата возрастает просто в силу увеличения деловой активности и прибыль, которую она приносит владельцу земли, увеличивается сама собой. В этой точке количество самым непосредственным образом переходит в качество и характер жизни. Жизненная сфера малого города по преимуществу ограничена им самим. Для большого же города важнейшее значение имеет тот факт, что его внутренняя жизнь расходящимися волнами распространяется на обширную территорию, охватывающую все государство или несколько государств. Веймар не может служить контрпримером, потому что его значение было связано с отдельными личностями и умерло вместе с ними, тогда как большой город характеризуется как раз тем, что, по сути, он независим даже от самых значительных отдельных личностей: это отражение и цена той независимости, которой пользуется в нем индивид. Наиболее значимая сущность большого города заключается в том, что его функциональная величина выходит за его физические границы, и то воздействие, которое он распространяет вокруг себя, возвращается обратно и придает его жизни вес, существенность и ответственность. Как человек кончается не там, где проходят границы его тела или той зоны, которую он непосредственно заполняет своей деятельностью, а только на тех рубежах, которых достигает сумма всех воздействий, исходящих от него в пространстве и во времени, — так и город состоит из совокупности воздействий, выходящих за его непосредственную черту: именно они задают его подлинный размер, в котором находит свое выражение его бытие. На это указывает уже логическое и историческое дополнение пространственной раскинутости большого города — индивидуальная свобода, которую следует понимать не только в негативном смысле, просто как отсутствие препятствий для передвижения, предрассудков и мещанских ограничений: в ней главное то, что особость и несравнимость, которыми в конце концов так или иначе обладает любая натура, проявляются в образе жизни. То, что мы следуем законам нашей натуры, — а это ведь и есть свобода, — становится нам самим и другим людям вполне ясно и несомненно только тогда, когда проявления этой натуры еще и отличаются от проявлений натур других; только невозможность спутать нас с кем-либо доказывает, что наш способ существования нам не навязан другими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: