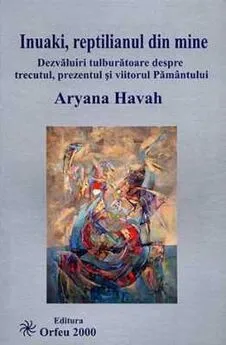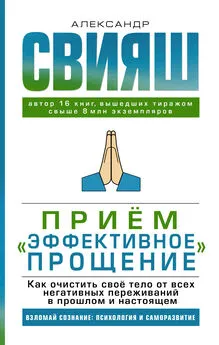Игорь Латышев - «Дух Ямато» в прошлом и настоящем
- Название:«Дух Ямато» в прошлом и настоящем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-02-016465-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Латышев - «Дух Ямато» в прошлом и настоящем краткое содержание
Научное издание.
«Дух Ямато» в прошлом и настоящем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В своем исследовании Мотоори Норинага полностью привел как якобы действительную всю легендарную историю Японии с ее культом императора и древней синтоистской религией. Начав с исторической и культурной сферы, он перешел в сферу религиозную, представив «Кодзики» как основное священное писание синтоизма. Мотоори Норинага отвергал буддизм и вес средневековые школы синтоизма, сохраняя неизменную преданность древним японским богам — «ками». В его трудах соединились конфуцианская ученость и идеология синтоизма [22. с. 146].
После Мотоори движение приверженцев кокугаку продолжало развиваться в разных направлениях. Часть ученых по-прежнему занималась японской литературой и историей, другие уделяли больше внимания разработке синтоистских элементов о кокугаку, а самые активные перешли в сферу политики и первыми заговорили о реставрации монархического строя.
Наиболее энергичным продолжателем линии Мотоори Норинага был Хирата Ацутанэ, деятельность которого вплотную сомкнулась с движением неосинтоистов. В отличие от своего предшественника он считался принадлежащим к воинскому сословию, так как был усыновлен самураем. Он также получил конфуцианское воспитание и занимался серьезным изучением истории и старой японской литературы.
Усилиями Хирата сочетание конфуцианской учености и сии-тоистской идеологии эволюционировало в воинственную расистскую доктрину. Основные положения этой доктрины Хирата изложил в работе «Тамадасуки» («Драгоценные узы»). Он ут-верждал, что все японцы одной крови, что императорский дом произошел от верховных небесных богов, что предки сёгуна и крупных даймё были ответвлениями семьи императора, что более мелкие феодалы произошли от своих родовых богов (уд-зигами), что каждый японец произошел от какого-нибудь бога и потому страна священна. Это — синкоку (страна богов) и ко-коку (страна императора), что делает ее исключительной и ставит над всеми другими нациями и народами. В работе «Кодо тайи» («Сущность древнего пути») Хирата ставил вопрос об опасности, угрожавшей священности Японии со стороны иностранцев.
Хирата считал своим долгом донести эти идеи до широких масс. Он писал много популярных работ, в которых выступал проповедником синтоистских мифов, пропагандировал анти-иностранные настроения, старался повысить престиж императора. Так, политическая направленность кокугаку привела к перенесению акцента со страны на императора. Если предшественники Хирата Ацутанэ стремились лишь к пробуждению национального самосознания путем возрождения интереса к исконно японской культуре, то Хирата сконцентрировал этот интерес на патриархальных традициях древности, отождествив их с императорскими традициями. Его стараниями стали распространяться представление об императоре как о живом божестве (арахитогами) и убеждение, что ни один японец не может считаться настоящим японцем, если не следует этим завещанным предками традициям [21, с. 58–59]. Так как учение Хирата Ацутанэ явно противоречило позиции бакуфу, в 1841 г. ему было запрещено заниматься политической деятельностью, а также научным и литературным трудом. Он вынужден был уехать к себе на родину, в Акита, где в скором времени умер.
Таким образом, учение кокугаку вело к идеализации японской древности, усилению влияния синтоизма и шовинизму, что особенно ярко проявилось к середине XIX в., когда изменение обстановки на Дальнем Востоке поставило на повестку дня внешнеполитические проблемы.
Взгляды Ямадзаки Ансая и Ямага Соко, а затем Мотоори Норинага и Хирата Ацутанэ получили дальнейшее развитие в трудах ученых школы Мито (Митогакуха). Эта школа сложилась в княжестве Мито, правители которого, хотя и принадлежали к роду Токугава, находились в оппозиции к сёгунату. Представители этой школы в связи с политическими задачами, которые перед ними были поставлены, уделяли основное внимание этико-политическим вопросам, и особенно японской истории.
Один из князей Мито, Токугава Мицукуни (1628–1700), повелел начать труд по составлению многотомной истории Японии «Дайнихонси» («История великой Японии»), Этот труд был далек от подлинной научности, он создавался по типу китайских официальных династийных историй, призванных возвеличить императоров. Его основное содержание составляли сильно приукрашенные биографии императоров и императриц, деяния богов, генеалогия знатных родов и т. д. Реализация этого грандиозного замысла потребовала огромных усилий. Работа началась в 1658 г. и завершилась лишь через 250 лет, в 1906 г., когда вышел последний, 397-й том [6, с. 150–151]. Но даже в незавершенном виде «История великой Японии» сыграла большую политическую роль: она была использована для теоретического обоснования свержения сегунов и реставрации правления императоров.
Наиболее выдающимися деятелями школы Мито были Фуд-зита Юкоку (1774–1826) и Токугава. Нариаки (1800–1860). Преданный вассал князей Мито, Фудзита Юкоку в своих трудах выдвинул лозунг «Сонно хайки» («Почитайте императора, низвергайте узурпатора!»), который был с энтузиазмом встречен в кругах враждебно или недоброжелательно настроенных по отношению к сёгунату. Несколько позже с усилением пропаганды националистических идей в связи с деятельностью Токугава Нариаки был выдвинут лозунг «Дзёи» («Изгоняйте варваров!»). Соединение этих двух лозунгов в один «Сонно дзёи» («Власть императору, изгнание иноземцам!») сыграло заметную роль в дальнейшем развитии событий.
Для достижения более полного слияния конфуцианства с синтоизмом и устранения противоречий и расхождений между ними Токугава Нариаки создал специальное учреждение с многозначительным, перекликающимся с китайской классикой названием «Кодокан» («Школа расширения пути»). Деятели этой школы, некоторые из которых в своих националистических настроениях доходили до фанатизма, считали необходимым вопреки официальному запрету использовать в интересах Японии не только мудрость древних китайских философов, но и достижения науки и техники стран Запада. Основным стимулом к изучению чужеземной культуры было для них усиление собственной страны [8, с. 297–305].
Правительство же опасалось, что изучение Запада может подорвать уважение к японским национальным ценностям и традициям. И в 1843 г. был издан специальный эдикт, запрещающий всем японским ученым, за исключением практикующих врачей, заниматься западными науками. В одном из официальных предписаний говорилось: «Многие доверчивые люди легко поддаются обаянию экзотических идей и странных фактов. Те, кому нравятся иностранные веяния, кончают тем, что теряют свой врожденный японский дух, становятся слабыми трусами, способными нанести неожиданный удар в спину. С ними надо быть всегда настороже». В другом подобном предписании употребление иностранных терминов и «варварских» слов объявлялось непатриотичным и антияпонским действием Г21 с. 67–68].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: