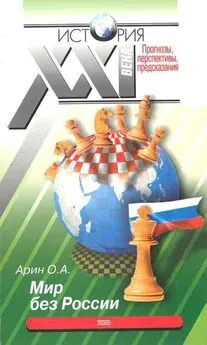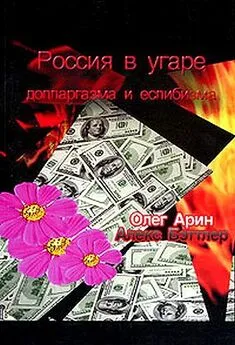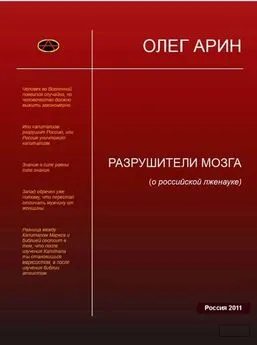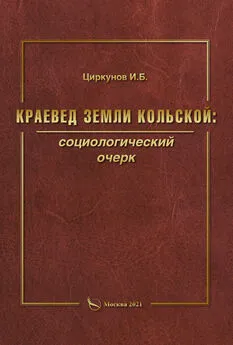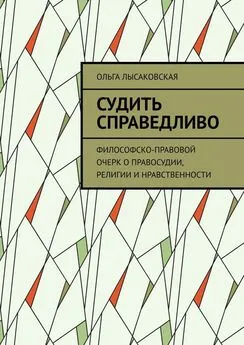Олег Арин - О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк]
- Название:О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КомКнига
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-484-00354-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Арин - О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк] краткое содержание
Теоретическая, философская, часть работы дополнена социологическими данными, показывающими сравнительную картину ситуации семьи и брака на Западе и в России.
Несмотря на серьезность тем, работа написана в жанре публицистического очерка, т. е. языком, сделавшим текст доступным для широкого круга читателей, интересующихся названными проблемами.
О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Анетта С. Баэр также говорит об историчности любви, выдавая не менее глубокую сентенцию: «Любовь — это не просто эмоции, которые люди ощущают в отношении других людей, а комплекс, связывающий вместе эмоции двух или нескольких людей; это особая форма эмоциональной взаимозависимости».
Хэлм высоко оценивает подчеркивание авторами данной подгруппы «историчности» любви, поскольку это придает любви «длительность», в течение которой любящий и любимый меняются, естественно, в лучшую сторону. Сам Хэлм, кажется, понимает, что все обозначенные им школы и группы мало что внесли в теорию любви. Так и осталось непонятным: почему люди любят и почему именно того или ту, а не других? В чем ценность любви? Древние философы давали ответы на эти вопросы, а вот некоторые ответы американских философов.
Дэвид О. Бринк полагает, что человеку не достаточно просто оценивать себя через любимого, он нуждается в улучшении себя, а для этого он должен взаимодействовать с другими, которые не похожи на тебя. Взаимодействие предполагает осознание альтернативных возможностей того, как рационально извлечь лучшие стороны достоинств, сложившейся пары. В этом заключается, по словам Бринка, «эпистемологическое значение» любви.
Другой философ, Лафаллет, подчеркивает, что любовь усиливает наше чувство благополучия, повышает самооценку, развивает характер. Кроме того, она уменьшает стрессы и кровяное давление, улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни. Все это, как говорится, имеет место быть. Но весь этот букет здоровья можно получить, содержа кошку или собаку, о чем очень часто напоминают защитники животных с экранов телевизоров.
Фридман делает упор на моральные ценности, поскольку любовь несет «человеку благополучие, целостность и наполненность жизнью». Соломон резюмирует: «В конечном счете, существует только одна причина любви. И это великая причина есть то, что мы рождаем самое лучшее друг в друге». Что означает «самое лучшее», Соломон не уточнил, видимо, полагая, что это ясно каждому.
Среди философов идет непрекращающийся спор также о том, что, в конечном счете, любят: саму личность или качества личности. Например, специалист по греческой философии Грегори Властос полагает, что Платон и Аристотель упор делали на качества объекта любви, а не связывали ее с конкретной личностью. В таком случае личность, как бы, не имеет никакого значения, поскольку похожими качествами обладают многие. Но настоящая любовь не заменяема (not fungible).
Эти философы не поняли, что Платон и Аристотель говорили о любви на онтологическом уровне, их интересовала любовь вообще как феномен человеческого бытия. Они не заметили, что у Платона высшим мерилом любви к красоте была любовь к философии как выражению максимальной красоты. Они не предполагали, что через две тысячи четыреста лет появятся философы, которые не смогут отличить онтологию от гносеологии, явления от сущности, а диалектика для них будет так же чужда, как и для многих непутевых учеников Сократа.
Безрезультатные попытки разобраться в сущности любви как явлении побудили другого американского философа Алекса Мосли поставить общий вопрос: познаваемо ли это явление? Например, феноменологисты полагают, что любовь — это непознаваемый феномен (non-cognitive phenomenon). И если даже любовь обладает природой, которая проявляется через личностные выражения, особым типом поведения или действий, то все равно, возможно ли правильно понять эту природу человеческим разумом? Может быть, ее истинная природа лежит за познавательными пределами человека? Не исключено, что любовь — некая побочная (epiphenomenal) целостность, воплощенная в человеческих действиях любящих, которые невозможно понять и описать языком [44] Moseley. Philosophy of Love.
.
Мосли не дает однозначного ответа на подобные вопросы-сомнения. Но ход его рассуждений очень напоминает взгляды философов-нигилистов из университета Нью-Джерси, особенно философа Колина Макгина, хотя по другому поводу — в связи с попыткой разгадать проблему разума/тела. В рамках данной проблемы необходимо было дать ответ на вопросы, что такое мысль и чем она отличается от сознания? Не сумев решить эту проблему, нигилисты пришли к выводу, что сознание находится за пределами «когнитивных возможностей» человека [45] Подр. см.: Диалектика силы, с. 247–251.
. Так же и с любовью — ignorabimus (не познаем)!
У Мосли, правда, есть запасный выход: любовь, может быть, не познаваема для обычных людей, обывателей (которых, думаю, вряд ли интересует данная проблема), но она доступна философам, музыкантам, поэтам — избранным. По мнению Мосли, они рассматривали природу любви в качестве романтической любви, которую начали воспевать еще трубадуры Франции XI века. Такая любовь восходит к платоновским традициям, в соответствии с которой любовь — это стремление к красоте, ценности, которая воплощается, в частности в красоте тела. Кульминацией такого подхода является любовь к философии — предмету, олицетворявшему высшую степень человеческого разума. Современная же романтическая любовь, по мнению Мосли, ближе к аристотелевскому варианту любви двух людей, выраженному фразой: единство двух тел и одной души.
Не только Мосли, но и немало других ученых рассуждает аналогичным образом, по какой-то причине упуская, что у Аристотеля речь идет главным образом о любви как филии (дружбы), которая носит более общий характер, чем взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Поэты не анализируют любовь как понятие, а описывают переживания влюбленных. Ни один из них: ни поэты, ни писатели ничего путного о любви как о понятии не сказали [46] В этом можно убедиться, прочитав книгу Черткова (О любви), который как раз на основе высказываний поэтов и писателей пытался сформулировать понятийное определение любви. Ничего у него не получилось.
.
Хочу для курьеза упомянуть еще подход физикалистов. Так называют тех, кто называет любовью физическую реакцию на другого, которого субъект ощущает физически привлекательным. Соответственно, действия влюбленного проявляются в разнообразном поведении, для которого характерны ухаживание, забота, желание показать объект на людях и т. д. Это бихевиористский подход (любовь определяется через особый тип поведения). Физикалистами и генетиками он анализируется главным образом через сексуальные отношения влюбленных. Некоторые генетики выдвигают теории, что уже в генах заложены определенные критерии выбора того или иного сексуального партнера. При таком варианте цитата Тейяр де Шардена, приведенная в начале главы, о встроенности любви в молекулы уже не кажется совершенно безумной. Редукционисты, кажется, проникли во все науки [47] Подр. о редукционистах см.: Диалектику силы, с. 264–267.
.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Арин - О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк]](/books/1089384/oleg-arin-o-lyubvi-seme-i-gosudarstve-filosofsko-sociologicheskij-ocherk.webp)