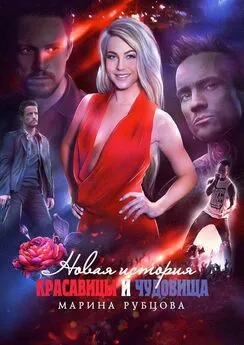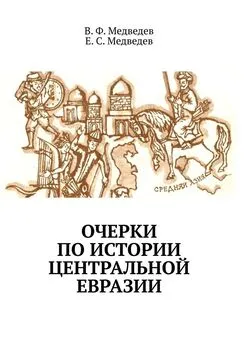Марина Могильнер - Новая имперская история Северной Евразии. Часть I
- Название:Новая имперская история Северной Евразии. Часть I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ab Imperio
- Год:2017
- Город:Казань
- ISBN:978-5-519-51103-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Могильнер - Новая имперская история Северной Евразии. Часть I краткое содержание
Новая имперская история Северной Евразии. Часть I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В следующем поколении наступает перелом: в начале XII века заключаются первые браки между представителями разных княжеских династий Рѹськой земли. Особенно ярким примером может служить сын Владимира Мономаха и его наследник на киевском престоле Мстислав. За три года до Любеческого съезда его женой стала шведская принцесса, а после ее смерти он женился в 1022 г. на дочери новгородского посадника: не только не «иностранке», но представительнице местной знати, а не княжеского сословия. А с середины XII века исключениями уже становятся браки с представителями династий за пределами Рѹськой земли (не считая половецких ханов).
Рассматривая брак как инструмент налаживания союзнических отношений, представители княжеских семей выбирали супругов за пределами своего политического пространства. С этой точки зрения очевидно, что после Любеческого съезда князья действительно начали воспринимать чужие «отчины» как другие страны — а потому и вступать в брак с друг другом. Это важное обстоятельство, свидетельствующее о начале процесса оформления самостоятельных политических центров на общем пространстве Рѹськой земли. Это пространство не было однородным или монолитным и раньше, новым было то, что теперь фрагментация фиксируется в сравнительно постоянных границах, реальность которых больше подтверждается восприятием со стороны (признанием другими династиями), чем внутренней политической консолидацией. Но это также означает, что реальные сети близких родственных отношений между князьями начинают складываться только в XII в., в то время как к середине XI в. большинство представителей княжеских семей были связаны лишь через одного общего и зачастую отдаленного предка.
Таким образом, к началу XIII в. Рѹськая земля как единое культурное и политическое надплеменное пространство прошла существенную эволюцию. Первоначальная политическая система по сути воспроизводила в масштабах огромной территории модель, сложившуюся еще в конце IX в., с некоторыми усовершенствованиями. Она основывалась на сосуществовании двух полуавтономных структур власти — местных городских (прежде племенных) общин и корпорации князей-Рюриковичей. Род Рюриковичей претендовал на монополию на княжескую власть на всей территории Рѹськой земли, однако право на конкретный княжеский престол обуславливалось победой в конкурентной борьбе с наиболее легитимными претендентами, что включало в себя и завоевание поддержки со стороны городской общины (часто в буквальном — военном — смысле слова). Управлять обширной страной с разношерстным населением, ориентирующимся на местные центры власти, из столицы было невозможно, а обеспечить лояльность местных князей центральной власти — нереально. Единственной технологией делегирования полномочий верным наместникам, имевшейся в распоряжение Рюриковичей, были семейные отношения отца и сыновей — но даже они не гарантировали от конфликтов, а удержать власть в руках одной семьи было нереально. Поэтому в 1097 г. было решено отказаться от попыток выстраивать единую систему власти для всей Рѹськой земли — принявшей христианство по византийскому обряду и признавшей законность власти сословия-рода князей Рюриковичей. На протяжении XII и начала XIII в. исходная общая модель двойной системы (власти пришлых князей — местной городской общины) совершенствуется и трансформируется в соответствии с разными сценариями, в разных княжествах: от республики в Новгороде, где верх одержала городская община, до Владимиро-Суздальского княжества, где князья последовательно добивались полного подчинения местной общины, в том числе путем переноса столицы в города с наиболее слабыми вечевыми традициями.
Рѹськая земля, когда-то названная по имени единственного связывающего разные территории института — варяжской (позже великокняжеской) дружины, никогда не существовавшая в роли централизованного государственного единства, теперь и формально разделилась на отдельные «страны», правители которых считали возможным заключать между собой «международные» браки. Но вместе с тем несколько веков общей политической истории, религии и письменной культуры способствовали тому, что Рѹськая земля все в большей степени становилась категорией культурной идентификации. До сих пор остается спорным, насколько «многослойной» являлось ощущение культурной принадлежности в разных уголках средневековой Рѹськой земли: известно, что православие уживалось с пережитками языческих верований и обрядов, но неясно, насколько полной была ассимиляция представителей балтских, финских или тюркских племен, насколько различались местные разговорные диалекты — дошедшие до нас письменные источники в основном написаны на литературном древнерусском языке, что создает впечатление культурной унификации. Вероятно, это впечатление не более корректно, чем предположение о культурном единстве королевств Западной Европы, которое можно было бы сделать на основании чтения тестов на средневековой латыни.
Впрочем, в некотором смысле Рѹськую землю действительно можно сравнить с «Европой» — еще более двусмысленным и неопределенным конструктом ментальной географии более позднего периода. В отличие от «Европы», Рѹськая земля не одно столетие действительно являлась единым политическим пространством, в котором перемещались претенденты на княжеские столы, выкраивая княжества почти без оглядки на границы исторических земель и племен. Но точно так же, как и воображаемое пространство «Европы», общность Рѹськой земли была общностью близкого и понятного — но вовсе не обязательно дружественного — социального мира, общего пространства взаимодействия и конфликта. Эта общность не делала столкновения между княжествами менее кровавыми, чем войны с иноверцами, и не мешала одним «рѹським» привлекать варягов, половцев или поляков в качестве союзников против других «рѹських». Она могла послужить основой новой политической интеграции на каком-то этапе истории, но также стимулировала размежевание с соседями, чья культурная близость требовала принятия дополнительных мер для укрепления своей политической особости и отдельности.
3.2. Политическая интеграция степи
Рѹськая земля смогла сформироваться и эволюционировать на протяжении нескольких столетий как общее политическое и культурное пространство, включенное на равных в общую картину мира окружающих культур — от Скандинавии до Византии, — не в последнюю очередь потому, что не испытывала серьезной угрозы извне. За исключением южной лесостепной зоны, Рѹськая земля была территорией лесов, связанных сетью рек как главными транспортными артериями. Этот лесной край, к тому же, по большей части соседствовал со сравнительно малочисленным и менее организованным населением. Лишь на юго-западе, на границе с королевствами Польши и Венгрии, существовала зона конкуренции и кооперации с политически развитыми обществами. Связанные семейными узами с польскими и венгерскими владыками, князья Волынских и Галицких земель воевали с ними за пограничные города или приходили на помощь в качестве союзников, однако в масштабах всей Рѹськой земли реальной угрозы со стороны западных соседей до XIII века не существовало. Настоящее беспокойство вызывали степные кочевники на юге: печенеги, торки и сменившие их половцы. Однако и здесь речь не шла о глобальной угрозе. Несколько раз случались осады степняками Киева, они регулярно совершали набеги на южные земли — Переяславль, Чернигов, а еще чаще привлекались в качестве союзников в многочисленных межкняжеских конфликтах. Против кочевников предпринимались экспедиции в степь, строились заградительные линии — например, «змиевы валы» Владимира Святославича (протянувшиеся на много сотен километров земляные валы со сплошным частоколом и системой сторожевых застав). При этом отношения с кочевниками не сводились к войне, а интеграция половцев в политическое и культурное пространство Рѹськой земли была столь глубокой, что некоторые историки считают возможным признание их равноправными участниками этого пространства. Часть половецких ханов и их подданных приняли христианство, и едва ли не большинство Рѹських князей начиная с середины XII века хотя бы раз вступали в брак с половчанками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: