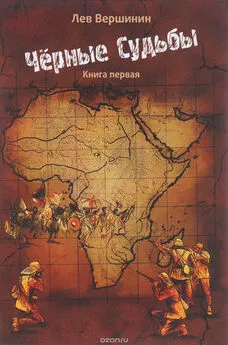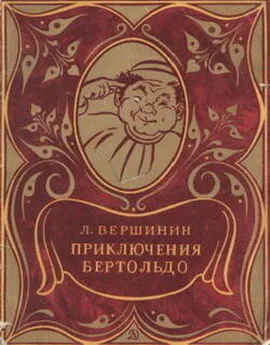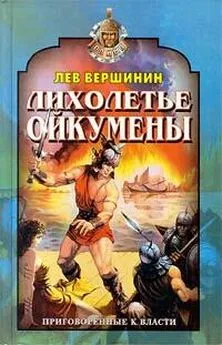Лев Вершинин - Дорога без конца (без иллюстраций)
- Название:Дорога без конца (без иллюстраций)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Вершинин - Дорога без конца (без иллюстраций) краткое содержание
Дорога без конца (без иллюстраций) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, в политическом смысле, Мсири, как положено потомственному барыге, был осторожен. С сильными он предпочитал дружить, мвато-ямво («королю» Рунды) посылал дары, что означало признание покорности, с мулохве балуба заключил союз, что обеспечило ему спокойную торговлю медью и солью с побережьем. А вот с мелочью, располагая мощной (до 5 тысяч «мушкетеров») армией, абсолютно не церемонился, и со временем начал откусывать земли у Уруа, подчиняя себе «вольные княжества» балуба, и в конце концов, взял под контроль две трети разлагающейся империи, поставив во главе подчиненных областей своих «торговых агентов», а фактически, полномочных наместников. И так, мало-помалу, дело шло, а после смерти Касонго Каломбо влияние Мсири уже не оспаривал никто. Кто не подчинялся, - как мвато-ямво, - тот был союзником, монополию же на торговлю медью, слоновой костью и (в восточном направлении) рабами Мсири делил разве что с арабскими коллегами, превратившими Маньему и Джиджи, - восточные провинции Уруа, - в независимые эмираты, управлял которыми некто Хамед ибн Мухамед аль-Мурждеби по прозвищу Типпу Тип («собиратель сокровищ»). Вполне серьезная персона: «Среднего роста… около сорока пяти лет, короткая борода и бритая голова уже начали седеть… Одет, как богатый араб с побережья, хороший собеседник, хотя и не получил никакого образования, многое знает о разных народах (англичанах, немцах, французах, итальянцах, бельгийцах);».
Короче говоря, - по сути, - тот же Мсири, только в профиль. Разве что официально именовал себя «эмиром султана». И схема та же: сперва торговля, потом собственная армия, постоянные фактории с пушками и гарнизонами «людоловов», затем карательные операции, основание сети рынков. Плюс очень разумная кадровая политика: руководить подчинившимися племенами ставил (как султан Занзибара – своих гулямов) собственных военных рабов, доказавших преданность и отпущенных на волю, но обязательно близких по крови к жителям соответствующих областей. Им можно было доверять, и… как писал в отчете Стенли, «В настоящее время он царь не коронованный, но бесспорный всей страны, простирающейся от порогов до озера Танганьика, и многие уверены, что этот араб вместе со Мсири из Бункейи, с которым он ладит, вскоре поделят всю страну». Вполне возможно, так бы оно и было, - во всяком случае, расширять владения оба собирались, а вражды между ними не было, - но судьбы Мира Реки уже решались не на уровне местных властей и даже не в Занзибаре.
Жизнь шершава. Бывает, живешь себе, живешь, в ус не дуешь, а где-то за тридевять земель чужие дяди, не имеющие к тебе ровно никакого отношения, уже решили твою судьбу. Причем, добро бы еще, если твою, так еще хуже: тебя пускают в расход сугубо за компанию, в рамках общего плана, ни изменить который, ни отменить ты не в силах. Вот такая коллизия, и она в полной мере применима к африканцам, обитавшим в глубинных районах континента во второй половины XIX века. До тех-то пор европейцы интересовались, в основном, побережьем, узенькой полоской земли, где удобно было устраивать фактории для торговли, - но Век Разума, подтолкнув прогресс, подтолкнул и внимание к полезным ископаемым. А стало быть, и к прямому подчинению народов, живших в залежных местах, потому как всякие разности кто-то должен добывать, причем, желательно, даром, и притом не помирать в гиблом климате. Вот по такой простой причине в описываемое время и начали создаваться колониальные империи: французы, англичане, португальцы шаг за шагом пошли в глубь ранее неизведанного континента. Правда, с экваториальными областями было сложнее. Там не было никаких заделов, средства на нулевой цикл прогнозировались такие, что рисковать не хотел никто, да к тому же и исследования Центральной Африки было сопряжено с очень большими рисками, от чудовищных, никому не ведомых хворей до особой дикости многих племен. Да и сам процесс освоения глубинных районов долго казался слишком сложным: что бы там ни крылось в недрах, реальной прибыли не светило в связи с полной невозможностью это «что бы там ни крылось» вывозить. Впрочем, понемногу появились просветы. Еще в 1820-м фармацевты выделили из коры Cínchona хинин, сделав не столь уж фатальной малярию – бич экваториальной зоны. Затем заявил о себе паровой двигатель, появились пароходы и железные дороги, потенциально решавшие проблему движения вглубь континента и вывоза сырья. А совершенствование огнестрела, вплоть до картечниц Гатлинга и пулемета «Максим» обнуляло преимущество туземцев в живой силе. Теперь, когда все три составные части результативной колонизации были налицо, для освоения Центральной Африки уже не было никаких препятствий. Кроме, конечно, риска потерять вложения в случае неудачи, - а прагматичные сэры и месье рисковать, тем паче, отвлекая средства из уже реализуемых проектов не хотели. В связи с чем, Конго, хотя и лакомое, оставался невостребованным, пока не нашелся человек, готовый рискнуть…
Леопольда II, второго короля крохотной Бельгии, - кстати сказать, чисто сепаратистского образования, появившегося только потому, что Англия захотела разорвать Нидерланды, - многие не любили. Аристократическая родня – в первую очередь. Например, свояк, Франц-Иосиф, именовал его «единственным человеком, из тех, кого я встречал в жизни, которого можно назвать абсолютно скверным», королева Виктория - «печальным исключением», Александр II – «барышником», а жена германского кайзера Вильгельма II настраивала и таки настроила мужа против бельгийского кузена, потому что «у Лео нет совести». И таки да: главной страстью жизни Леопольда были деньги, чего он, собственно, и не скрывал, откровенно заявляя, что «честь - понятие отвлеченное» и «лишь деньги заслуживают Царствия Небесного». Правда, король Бельгии любил деньги не столько тратить, сколько делать, и более того, имел к этому несомненный талант. С ранней юности он негласно участвовал в биржевых спекуляциях, умело оперировал ценными бумагами, имел интересы в Сирии, Албании и Марокко. считался неплохим статистиком, и как бы ни бесилась вельможная родня, в мире бизнеса заработал безупречную репутацию, что позволило ему вести дела с такими акулами, как Джон Морган и семья Вандербильт, с которым они вместе финансировали проекты в Китае. Вместе с тем, как вспоминают знавшие его, Леопольд был «прагматичным романтиком»: любил путешествия (кронпринцем объехал всю Европу, весь Ближний Восток, побывал в Индии и даже в Китае) и мечтал о колониях для Бельгии. У него даже на мраморном полу кабинета значилось: «Бельгия должна иметь колонии», а правление свое в 1865-м Леопольд начал с того, что выступил в парламенте с предложением «обрести земли за морями, пока есть такой шанс». Однако понимания не встретил, - бельгийские буржуа не видели смысла в глобальных проектах, - и решил взяться за дело сам, на правах частного лица, благо свободные средства имелись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: