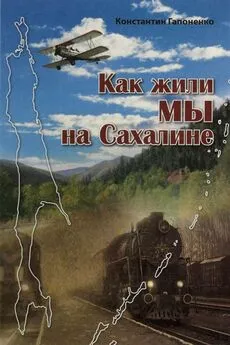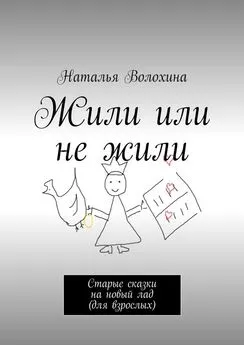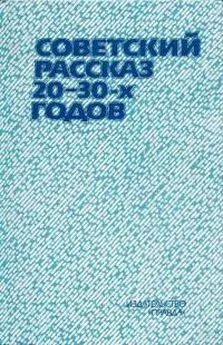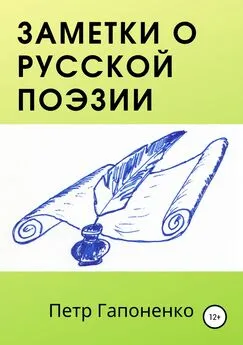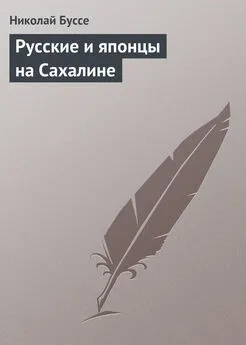Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине
- Название:Как жили мы на Сахалине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Лукоморье
- Год:2010
- Город:Южно-Сахалинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине краткое содержание
Как жили мы на Сахалине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Многие представляли себе, что на Сахалине деньги уж если не валяются под ногами, то сыплются сами в карман лишь за то, что человек осчастливил эту землю своим посещением. Когда выяснилось, что их надо зарабатывать, он с отвращением взирал на дикие сопки, черные японские фанзы и распалял себя: «Да я тут и дня не останусь!». Находились тысячи предлогов, чтобы повернуть назад. Самым расхожим был повод, что здесь ему или его жене «не климат». Начиналось обратничество. Слово это взято из резолюции республиканского совещания начальников переселенческих отделов при облисполкомах, принятой 25 июля 1947 года. Совещание рекомендовало в случае, если колхозник замышлял обратно навострить лыжи, принимать превентивные меры: «Вызывать переселенца на заседание правления колхоза, общего собрания колхозников, квалифицировать обратника как дезорганизатора колхозного производства, избегающего трудностей». Грозили ему судом. За период с 1946 года по 1950-й предъявлено было 605 исков на сумму 3 млн. 984 тысячи, но вряд ли взыскана хоть десятая часть.
И те, и другие меры давали слабый результат. Вот данные переселенческого отдела за 1949 год: из Краснодарского края прибыл 221 человек, туда же убыло 220; из Приморья сюда — 567, обратно — 513; из Крыма — 44, в Крым — 51; из Москвы — 246, обратно — 285; из Грузии — 23, в Грузию — 25; из Хабаровского края — 325, в Хабаровский край — 343. Статистические данные о механическом движении населения в Сахалинской области свидетельствуют о высоком уровне миграционных процессов. В 1950 году на Сахалин прибыло 135 тысяч, выехало 74 тысячи; в 1953-м прибыло 130,7 тысячи, убыло 115,3 тысячи человек. При этом надо учитывать, что убывающие — это те, у кого закончился срок трудового договора, семьи военнослужащих. Но бесспорным надо признать: не от хорошей жизни ехали сюда и не от лучшей — отсюда…
Однако пора наше путешествие привести к сахалинскому берегу. В сентябре пароход «Гоголь» доставил пас в Корсаков. Мы выгрузились вечером и всю ночь просидели у своих узлов. На лесоучасток предстояло выехать не скоро, и я пошел в город. Все мне показалось в нем чужим: убогие дощатые домишки, землистый цвет строений и неба, отвратительный запах недавно выгоревшего квартала и помоев, выливаемых прямо на улицу. Впрочем, вот и наше, родное: женщина, груженная авоськами, выходит из магазина, улыбаясь, здоровается со знакомой; по пыльной улице топает взвод солдат в баню, держат под мышками свертки; под пивным киоском валяется пьяный в грязной рубахе, один кирзовый сапог на ноге, второй лежит тут же… Никто никого никуда не тащит, никаких признаков, что рядом тут какие-то зоны. Мне никто не помешал взобраться на холм, откуда был виден весь городок и порт. Смотрел я на них с тоской: ради этого убожества стоило переться за десять тысяч километров? Нет, надолго здесь мы не останемся.
А остались навсегда.
Прошли десятилетия. Прожитое и пережитое запросилось на бумагу. Беседуя с людьми, роясь в архивных сокровищах, я памятую одно замечание Артура Шопенгауэра: «Каждый человек имеет в другом зеркало, в котором он может разглядеть свои собственные пороки, недостатки и всякого рода дурные стороны. Однако он большей частью поступает при этом, как собака, которая лает на зеркало в том предположении, что видит там не себя, а другую собаку».
Я старался рассказать о том, что меня удивило, возмутило, обрадовало или опечалило, навело на горестные размышления. Буду рад, если в пестрых заметках читатель найдет связующие звенья. А вдруг кому-то покажется, что материал подан предвзято, то это вполне возможно. Автор не свободен от недостатка, присущего собаке, которая гавкала на собственное изображение.
Венец терновый
I
Конверт был из Москвы, а письмо — из иной эпохи. Всмотритесь, уважаемый читатель, в эту фотографию: ей более ста лет. Даже если вы не питаете особого пристрастия к старине, ваш взгляд не останется равнодушным к чистым, светлым лицам, поразительным своей схожестью.
Перед вами дети Сергея Александровича и Александры Михайловны Песковых из Сергиева Посада, нынешнего Загорска Московской области. Сергей Александрович был настоятелем Ильинской церкви, имел сап протоиерея, иначе — протопопа, то есть старшего попа. Мать воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. Отец был главой семьи, мать — душой ее. Она навсегда осталась «дорогой мамочкой» для детей, «дорогой бабушкой» — для внуков.

Невольно испытываешь смущение перед бездной лет, отделяющих 1909 год от года нынешнего: начало минувшего века — пылкие мечтания, великие надежды и начало нынешнего — тяжелый груз пережитого, горькие разочарования. Счастливые дети еще не ведают, что впереди их ждут революции, две мировые войны, одна гражданская, голод и разруха, великие нравственные потрясения. Мальчики посещали занятия в мужской классической гимназии, где существовали строгие правила поведения, система поощрений и наказаний, мундирчики со стоячими воротниками, стрижка под нулевку в младших и средних классах, чинопочитание. В качестве главного предмета преподавался Закон Божий, затем следовали древние языки — греческий и латинский, один из новых — немецкий или французский. Между прочим, на каждый из древних языков отводилось часов больше, чем на родной русский или на математику.
После гимназических занятий оживлялся просторный протоиерейский дом. Дети переодевались в повседневное платье и проходили в столовую, где у каждого было свое место: отец — во главе стола, матушка — по левую руку, по правую — старший сын. Читали короткую молитву и приступали к трапезе: на первое — щи с говядиной (если не постились), на второе — каша со сливочным маслом, в плодоносную пору — яблоки и груши на десерт. Обед состоял не только в ядении, чада вкушали пищу не только телесную, но и духовную. За столом обсуждали семейные и житейские новости, гимназические успехи, оценивали поступки без злословия. Часы семейного общения были уроками добродетели.
Из-за стола отец шел в опочивальню, дети садились за приготовление уроков. Вечером наступала пора забав и игр: рисовали, музицировали, пели, разгадывали шарады и головоломки, читали наизусть стихи русских поэтов — Пушкина, Кольцова, Некрасова, Никитина, Сурикова, сочиняли сами, разыгрывали домашние пьесы. Не томились пустопорожним бездельем, состязаясь, учились хорошо, все в дальнейшем получили не только среднее, но и высшее образование. В семье господствовал дух взаимного уважения, дружбы, незыблемых нравственных правил. Этот дух не поколебали никакие общественные потрясения, он переселился в квартиры второго, третьего, четвертого поколений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: