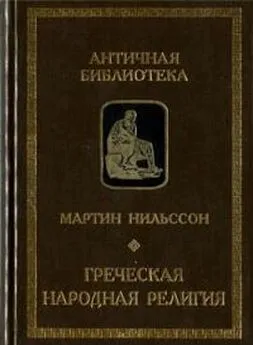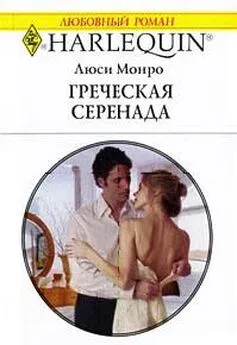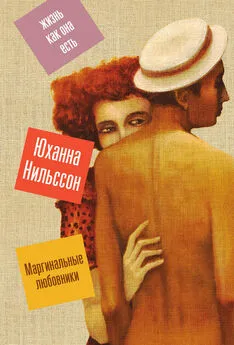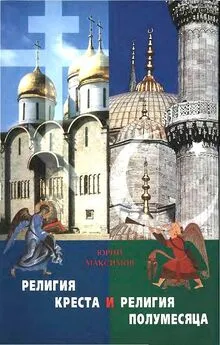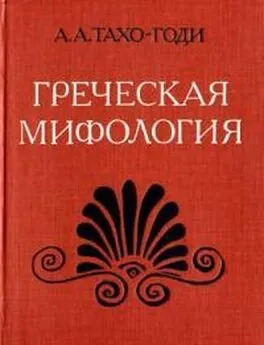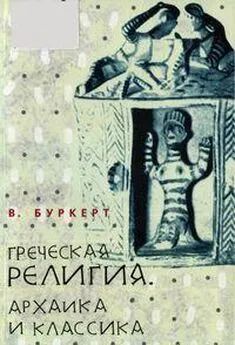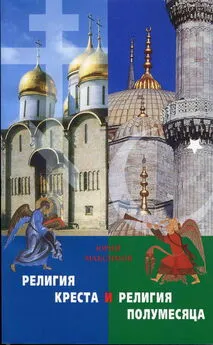Мартин Нильссон - Греческая народная религия
- Название:Греческая народная религия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1998
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Нильссон - Греческая народная религия краткое содержание
Издание сопровождается редкими иллюстрациями и авторским алфавитным указателем.
Предназначено для всех интересующихся античной культурой.
Греческая народная религия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако мы можем достичь правильного понимания мифа о похищении Девы-Зерна, которое [72] согласуется с климатическими условиями Греции. В июне колосья обмолачивают, и зерно — богатство человека, хранится в подземных погребах. В Сицилии во время обмолота отмечался праздник, носивший наименование Схождение Коры («Katagoge Kores»). Внизу, в подземных погребах Дева-Зерно находится в царстве Плутона — бога богатства. Через четыре месяца, когда подходит время осеннего сева, погреба открывают и достают зерно. Это уже «anodos», то есть Восхождение Девы-Зерна; как раз в честь этого события и совершались Элевсинские мистерии. Семена — зерна старого урожая, которые скоро прорастут и дадут новые всходы, сеяли в землю. Так Дева-Зерно соединялась с Матерью-Зерном — старое зерно встречалось с новым.
Теперь мы можем понять, почему Плутон — бог богатства, стал богом подземного мира. Его владения были под землей, в погребах, где хранилось зерно. В древности зерно часто хранили в больших кувшинах, зарытых в землю. Такие кувшины нередко использовались и для погребения. По-видимому, миф о похищении богини растительности является еще догреческим. То же самое относится и к имени Персефоны, которое встречается в самых разных формах: Ферсефасса и Перифона. Боги, обитавшие под землей, в сознании людей неизбежно отождествлялись с властителями подземного мира — с царем и царицей мрачного Гадеса. Дева-Зерно представала в виде мрачной Персефоны, как называет ее Гомер. Эти ее два облика так часто меняются, что, по [73] меньшей мере, не удивительно, что в Элевсине она, с одной стороны — Кора, дочь Деметры, а с другой стороны — Персефона, жена Плутона. Вероятно, здесь в одном персонаже соединились две древние богини — догреческая царица преисподней и греческая Дева-Зерно. Эти два ее обличья, относящиеся одно к смерти, другое к жизни, были для мистерий рогом изобилия. Прорастание нового колоска — это символ вечной жизни.
Однако был еще один праздник Восхождения Девы-Зерна — вскоре после извлечения семян зерновых из подземных хранилищ. Его изображения сохранились на росписях некоторых ваз; [53] Перечень и обзор этих ваз см. в приложении к моей статье «Die eleusinischen Gottheiten», pp. 131 и сл., см. прим. 1 к этой главе.
самое интересное из них — изображение на чаше для смешивания вина из Дрезденского музея (Илл. 17). На нем мы видим Ферефатту, которая уже до колен вышла из земли. Ей помогает Гермес, а духи природы, изображенные в виде трех сатиров, пляшут вокруг нее. [54] ArchäologischerAnzeiger, 1892, р. 166; J. Е. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, 3d. ed. (Cambridge, 1922), p. 277, Fig. 67; Farnell, Cults of the Greek States, III, Pl. 6b; и моя Gesch. der griech. Rel., I, Pl. 39, Fig. 1.
Смысл восхождения Девы-Зерна поясняется другими изображениями на вазах, которые сначала кажутся загадочными. Например, возникающая из-под земли большая женская голова, которую сатиры колотят большими [74] молотками [55] Harrison, Prolegomena, p. 279, Fig. 69; и моя Gesch. der griech. Rel., I, Pl. 39, Fig. 2.
(Илл. 18). Объяснение не вызывает сомнений. Этот большой деревянный молот — обычный предмет сельской утвари; он применялся для дробления комьев земли и размягчения поверхности земли, которая после того, как посевы запахивали, становилась очень твердой. Этот процесс начинался, как только появлялись всходы, но когда еще можно было ходить по полям, не причиняя им вреда. Это прорастание новых колосьев и соответствовало второму восхождению Девы-Зерна.
Суть мифа в воссоединении Матери и Девы. Судя по характеру праздника, это же было и основой Элевсинских мистерий — праздника Восхождения Девы-Зерна во время осеннего сева. Древний аграрный миф поднялся в сферу человеческих взаимоотношений. Горе и печаль обездоленной матери, ее отчаянные поиски затрагивают глубочайшие человеческие чувства. Деметра по праву может быть названа «mater dolorosa» греческой религии. В противовес этой горькой печали, воссоединение матери с дочерью вызывает бурную радость, ликование. Сердца мистов наполнялись сильными эмоциями. Мистерии не носили мрачного оттенка; они дарили людям радость и веселье. Их основной темой было не похищение и разъединение, а воссоединение. Это воссоединение изображено на знаменитой Ниннионской табличке конца пятого века до Р. X., [75] обнаруженной в сакральном месте в Элевсине [56] Ephemeris archaiologike, 1901, Pl. I; Farnell, Cuits of the Greek States, III, Pl. 16; и моя Gesch. der griech. Rel., I, Pl. 41, Fig. 2.
(Илл. 21). В нижней части Деметра изображена сидящей напротив пустующего трона — Кора отсутствует. К Деметре подходит Иакх, предводитель великой Элевсинской процессии, и двое мистов. В верхней части мы снова видим сидящую Деметру, к которой приближается величественная женщина с факелами; за ней следуют мисты: женщина с керносом (сосудом, используемым во время мистерий) на голове, юноша и мужчина. Это и есть Кора, возвращающаяся к своей матери. Конечно, это нельзя считать непосредственным изображением фрагмента мистерий, которые запрещалось осквернять не только словесной, но и изобразительной передачей. Это сцена, изображающая эпизод из мифа, но в ней есть определенные черты, позаимствованные из процессии мистерий. Нам не известно, разыгрывалось ли во время мистерий воссоединение матери с дочерью, но это явно было у всех на уме. Возможно, это каким-либо образом разыгрывалось, а может быть — представало лишь в виде символов. Один христианский автор пишет, что наивысшая мистерия Элевсинских «epopteia» состояла в том, что участники в полном молчании созерцали сжатый колосок. [57] Hyppolytus, Refutatio haereseon, V, 8, 39.
Быть может, это утверждение достовернее прочих, так как оно точно соответствует [76] простому аграрному характеру древнего Элевсинского культа. В этой связи часто упоминается изображение на Апулийской надгробной вазе, на котором можно видеть пять колосков в сакеллуме, выписанных очень тщательно [58] P. Wolters, «Die goldenen Аhren», Festschrift für James Loeb zum sechzlgsten Geburtstag gewidmet (München, 1930), p. 124, Fig. 14; Farnell, Cults of the Greek States, III, Pl. 3b; и моя Gesch. der griech. Rel., I, Pl. 42, Fig. 3.
(Илл. 20). Конечно, оно не имеет ничего общего с Элевсинскими мистериями, а лишь является выражением той же веры в сакральную природу колоска, символа вечной жизни. Новые всходы были целью этих обрядов осеннего сева, именно на них возлагали свои надежды участники. И вот этот колосок — в руках иерофанта. Люди могли видеть его и верить, что их надежды сбудутся, точнее — уже сбылись. Вот и она — та, которая так долго отсутствовала и которую напрасно искали, — Дева-Зерно, воссоединенная с Матерью-Зерном. Итак, если эта информация достоверна, можно назвать колосок зерна Девой-Зерном.
Древний аграрный культ мог нести и другие идеи морального характера. Мы уже знаем, что к паре, состоящей из двух богинь, был прибавлен Триптолем. Но сначала это было не так. «Гомеров гимн» упоминает его лишь как одного из представителей Элевсинской знати. Мы можем проследить процесс его возвышения к статусу героя. Этим возвышением он был обязан своему имени, [77] которое может означать «трижды воюющий», но которое понималось как «трижды пашущий». И вот он стал героем трижды вспаханного поля, иногда его изображали с плугом в руке [59] Athenlsche Mitteilungen, XXIV (1899), Pl. 7; Harrison, Prolegomena, p. 273, Fig. 65.
(Илл. 23). Павсаний упоминает о святилище Триптолема на священном Рарийском поле близ Элевсина — колыбели земледелия, места, где были посеяны первые зерна. В конце шестого века до Р. X. изображения Триптолема начинают появляться на чернофигурных вазах; он предстает в образе бородатого героя [60] W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie (Leipzig, 1884—1937), Bd. V, col. 1127, Fig. I.
(Илл. 19). На ранних краснофигурных вазах его изображение встречается особенно часто. Мы видим его сидящим на крылатой колеснице, запряженной змеями, либо стоящим между двумя богинями, которые предлагают ему прощальную чашу, отправляя его учить людей земледелию [61] Лучшим примером является скифос Гиерона. Он воспроизводится довольно часто. См. A. Furtwängler and К. Reichhold, Griechische Vasenmalerei (München, 1900—1932), Pl. 161; Farnell, Cults of the Greek States, III, Pl. 13; и моя Gesch. der griech. Rel., I, Pl. 43, Fig. 1 (часть).
(Илл. 23). Но и тут, несмотря на присутствие богинь, центральной фигурой остается Триптолем.
Интервал:
Закладка: