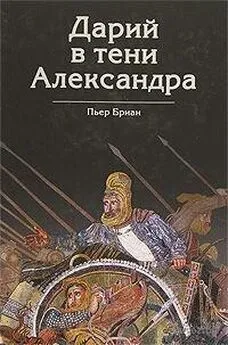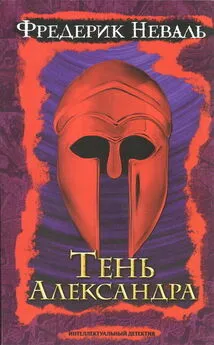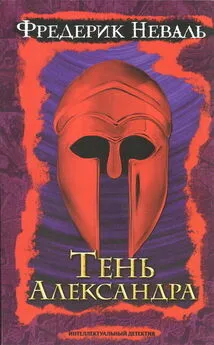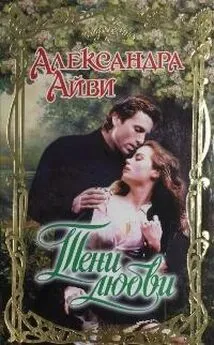Пьер Бриан - Дарий в тени Александра
- Название:Дарий в тени Александра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2007
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пьер Бриан - Дарий в тени Александра краткое содержание
Дарий в тени Александра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, как и у Плутарха [16] Плутарх. Александр 4.1–3.
, физический портрет Александра выглядит по меньшей мере лаконично и стереотипно, возможно, просто потому, что у того не было впечатляющего телосложения, достойного царя. И тем более катастрофичным для памяти Дария является то, что, вопреки установившемуся литературному правилу, Арриан не приводит никаких упоминаний о физическом облике персидского царя, даже несмотря на ставшее общеупотребительным описание Плутарха: "Дарий был красивым и большим человеком, и он превосходил всех других мужчин по красоте и величественной осанке" [17] Плутарх. Александр 21.6: kallistos kai megistos, и 33.5: kalon andra kai megan; о стереотипном характере терминологии, см. Л. Робер. По Малой Азии, 1980, стр. 423–424.
. Александр является единственным героем этой истории Арриана, образцом и примером всех мыслимых достоинств (в процитированном пассаже их приведено не меньше девятнадцати). Рядом с ним множество простых смертных выглядят посредственно, даже серо: Дарий, бесспорно, наиболее заметный представитель этой серой массы.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОРМЫ; О РОЛИ MIMESIS
Далее я буду часто иметь возможность вернуться и весьма подробно рассмотреть образы Дария и Александра, такими, какими они представлены у различных авторов. Прежде всего важно понять, почему и на каком основании Арриан пришел к решению наделить персидского царя столь явно выраженными негативными чертами. Вопрос и ответ на него очень важны, так как многие детали этих портретов являются основополагающими для современной историографии. Обсуждение этого вопроса тесно связано с проблемой литературных моделей, из которых черпали информацию Арриан и другие авторы, и норм, которым они подчинялись.
Необходимо подчеркнуть - и все время напоминать - о глубинных разногласиях между древней историографией и историческим методом, сформировавшимся в течение XIX и XX веков в Европе. Конечно, такое временное ограничение может вызвать улыбку, поскольку можно сказать, что автор, похоже, решил ломиться в открытые двери. Но улыбка и ирония исчезают по мере того, как мы начинаем погружаться в древнюю и современную литературу, развившуюся на основании образа Александра и его приключений. Все еще чересчур поглощенная определением и исследованием "первичных" источников, использовавшихся известными нам авторами римской эпохи, которые на сегодняшний день либо числятся в утерянных, либо существуют в виде разрозненных фрагментов, нынешняя историография продолжает завышать, пусть даже неявно, исторический вклад Арриана и других авторов, которые удобно, недостаточно ложно были занесены в категорию, называемую "историки эпохи Александра". В действительности же литература, которую мы вынуждены использовать, чтобы восстановить историю взаимоотношений Александра и Дария, не имеет ничего общего с реальной историей, такой, как мы привыкли ее понимать. В своем столь вдохновляющем эссе о mimesis Эрих Ауэрбах посвятил этому вопросу несколько страниц, внося некоторую ясность:
"Античная историография не интересуется действующими силами, но видит лишь достоинства и недостатки, успехи и ошибки; как в области разума, не остается места для исторического развития - повествование носит сугубо морализаторский характер... Моралистическая историография... не может создать синтетико-динамические понятия... Вторая отличительная черта этой историографии состоит в том, что она является образцом ораторского искусства... Морализм и риторика несопоставимы с концепцией реальности, считающейся последствием развития определенных сил... [использованные тексты] обнаруживают как границы древнего реализма, так и границы исторического сознания античных народов" (Mimesis, стр. 49,51).
Естественным следствием была приверженность моделям, позволяющим продемонстрировать и объяснить события - к ним тяготели все авторы античного периода. Еще сильнее это было выражено в римскую эпоху, когда произведения греческой литературы бережно собирались и одновременно им систематически подражали, повторяя и перепевая избранные отрывки. Эти отрывки изучали и повторяли в школах как образцы, изменять которые категорически возбранялось. Мы знаем, что Дионисий Галикарнасский написал исследование "О mimesis" (О подражании), ныне утерянное, но доказано, что "сборники подражаний великим писателям были еще до него одной из трех частей, обязательных для образования оратора" (Круазе). Дионисий широко трактовал то, что он считал необходимым позаимствовать у великих историков прошлого (Геродот, Фукидид, Ксенофонт и т.д.).
В другой из его работ, "Аттические ораторы", Дионисий, вслед за многими другими, борется с тем, что он называет упадком, постигшим, согласно его мнению, ораторское искусство после Александра. Оно было испорчено пороком, называемым им "азиатством". Этот порок характеризовался признаками, очень близкими к тому, что обычно говорили, описывая Персию эпохи Дария: изобилие (euporia), роскошь (tryphe), отсутствие достоинства (ageneia), вялость (malakia), изнеженность, - короче, распутная куртизанка, "прибывшая вчера или позавчера, из какой-то дыры в Азии - отдаленной мидийской, фригийской или карийской провинции" и занявшая место "законной, свободнорожденной супруги". Столь печальной эволюции Дионисий предлагает противопоставить ни больше ни меньше как восстановление древнего порядка (he arkhaia Taxis), то есть древнюю риторику, основанную на мудрости (§ 1.2).
Чтобы проиллюстрировать свою речь, Дионисий берет пример ритора Эге-сия из Магнезии, который около 250 года до Р. Х. написал историю Александра. Страбон сделал из него "инициатора азиатского стиля, развратившего установленные аттические обычаи" [18] Страбон, XIV. 1.41.
. Сам Дионисий видит в нем проявление самого принципа литературного упадка, альфу и омегу ненавидимых им авторов, которые позволили себе быть достаточно оригинальными и освободиться от требований традиции. Он разоблачает это на примере того, как Эгесий трактовал один из эпизодов истории Александра, а именно наказание, наложенное македонским царем на Батиса, назначенного Дарием управляющим Газой. Читая Квинта Курция, и нескольких авторов, по времени более нам близких, становится ясно, что он сам или его источник умудрился достаточно искусно скопировать гомеровскую модель - наказание Гектора Ахиллом. Именно это пытался сделать и Эгесий, но Дионисий считает, что он не сумел это сделать достаточно искусно, поскольку его азиатская манера "подходит лишь для женщин или людей низкого сословия". Видно, что обсуждение не сосредотачивается вокруг вопроса о том, попытался ли тот или другой деятель провести, как мы сейчас сказали бы, "историческое" исследование. Речь идет просто об осуждении с точки зрения традиционных правил mimesis литературного качества произведения,
Интервал:
Закладка: