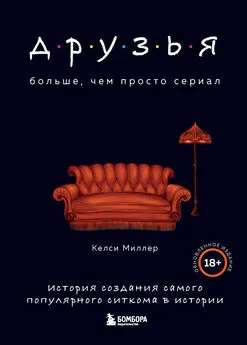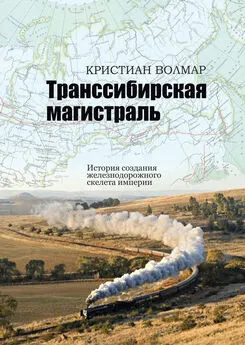Кристиан Волмар - Транссибирская магистраль. История создания железнодорожной сети России
- Название:Транссибирская магистраль. История создания железнодорожной сети России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2016
- Город:М.
- ISBN:978-5-9950-0669-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кристиан Волмар - Транссибирская магистраль. История создания железнодорожной сети России краткое содержание
Транссибирская магистраль. История создания железнодорожной сети России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тот факт, что большинство пассажиров Транссиба, как и миссис Ли, направлялись скорее в Китай или из него, нежели во Владивосток, побудил русское правительство пересмотреть возможность строительства Амурской железной дороги. Русские возмутились, когда газета «Таймс» предположила, что Транссиб — это магистральная линия не до Владивостока, а до Китайского моря с ответвлением на Владивосток. В Восточной Сибири это привело к усилению давления со стороны общественности, призывающей к строительству Амурской железной дороги, которое перенаправило бы отрасль и капитал из Маньчжурии в Сибирь. Население Восточной Сибири считало, что КВЖД отбирает у них средства к существованию, став основной транспортной артерией, соединившей Владивосток со всем остальным миром. Вместо того чтобы селиться в Восточной Сибири, русские крестьяне отправлялись в Маньчжурию или оставались в более доступных районах к западу от Байкала.
Пароходные компании, прежде процветавшие на Амуре, были на грани разорения, а местные торговцы жаловались, что большая часть покупателей перебралась в Маньчжурию. По этой причине общее влияние Транссиба на экономику Восточной Сибири не оправдывало ожиданий и даже могло считаться негативным. Владивосток, которому, как планировалось, строительство железной дороги должно было принести наибольшую выгоду, также оказался в проигрыше. Несмотря на поражение, нанесенное Японией, русские продолжали удерживать военно-морскую базу в Порт-Артуре, не спеша переносить ее во Владивосток, в результате чего начал стремительно развиваться располагавшийся на пересечении двух железных дорог Харбин. По сути, он превратился в аналог какого-нибудь приграничного города на американском Диком Западе — настоящий плавильный котел рас и культур [124] После падения Порт-Артура в самом конце 1904 г. крепость находилась в руках противника, русского флота в гавани порта уже не существовало по причине уничтожения его японцами. Бурный рост Харбина не был связан с поражением России в войне с Японией, а определялся его ключевым положением на КВЖД, обеспечивая значительный приток в город русского населения. По многочисленным воспоминаниям современников начала XX в., Харбин являл собой типичный пример среднестатистического провинциального города на окраине России.
.
До появления железной дороги будучи размером чуть более поселка, теперь Харбин представлял собой оживленный русский город на территории Маньчжурии. Пара путешественников, побывавших в Харбине после Русско-японской войны, были изумлены тем, что город выглядел так, будто был захвачен русскими, в то время как он являлся частью Китая: «Полиция в основном состоит из русских, Харбин настолько русский, что они осмеливаются вывешивать в гостиницах объявления на русском, в которых просят, прежде чем распаковывать багаж, сначала предоставить ваш русский паспорт для проверки в русскую полицию. Колоссальная наглость» {141} 141 Wright R. L. and Digby B. Through Siberia: An Empire in the Making (Hurst & Blackett, 1913); Tupper H. To the Great Ocean: Siberia and the Trans-Siberian Railway, p. 348.
. В Харбине размещалась не только штаб-квартира КВЖД, но и солдатские казармы, и множество других предприятий, на которых работали русские, в том числе различные фабрики и винокуренный завод, производивший свыше 11 миллионов литров водки в год (или, как уточняет Таппер, 113 литров на каждого жителя города, хотя остается надежда, что большая часть продукции все же предназначалась на экспорт). Еще один путешественник, банкир Даниэль Менокаль, вспоминал свой визит в Харбин в 1909 году, когда в гостинице он увидел картину, которая, по его словам, напомнила ему сцену из вестерна: «Компания бородатых, крепких, подвыпивших и абсолютно пьяных, шумных русских курсировала от бара к бильярдному столу… Были еще буряты — наполовину русские, наполовину монголы, японцы и несколько затесавшихся в эту буйную компанию женщин, довольно крепких на вид» {142} 142 Ibid., p. 349.
.
Однако железная дорога и связанное с ней развитие экономики несли процветание, и на улицах было полно богатых, хорошо одетых людей со всей Азии, а также местных в нарядных национальных костюмах. Несмотря на очевидное русское присутствие, заполнившей центр Харбина толпе, несомненно, был присущ космополитичный дух богатства и самоуверенности.
Русификация Маньчжурии и Харбина вместо Сибири и Владивостока не только вызывала обиду у жителей Восточной Сибири, но и представляла угрозу для государства. Мир с Японией был хрупким. После войны русские и японцы подписали три договора, закреплявшие основные принципы, касавшиеся их имперских амбиций, но все омрачалось непростыми отношениями, усугублявшимися взаимным недоверием сторон, и в основу азиатской политики России легла необходимость не допустить недовольства со стороны Японии. Как сухо заметил Витте: «На Дальнем Востоке первую скрипку теперь играли не мы, а Япония:» {143} 143 Marks S. The Burden of the Far East: The Amur Railroad Question in Russia, 1906–1916, in Sibirica: The Journal of Siberian Studies, Volume 1, Number 1 (1993/4), p. 11.
. Поэтому уменьшение зависимости от КВЖД, которая всегда угрожала стать катализатором напряженности в русско-японских отношениях, имело огромное значение для русской внешней политики. Кроме того, учитывая, что Транссиб строился отчасти в военных целях, теперь он не мог им служить, если только не будет полностью проходить по российской территории. Согласно мирному договору, подписанному в Портсмуте, русским запрещалось использовать КВЖД для транспортировки армии. Ситуацию усугубляло еще и то, что китайцы начали оказывать противодействие продолжавшемуся русскому присутствию в Маньчжурии, абсолютно справедливо называя его вторжением.
В очередной раз строительство дороги было затеяно с военной целью. Вопрос о том, строить ли вообще, вызвал жаркие политические споры в ставших (слегка) более демократичными коридорах власти. Сторонники железной дороги одержали верх, и прокладка Амурской линии стала ключевым элементом политики России на востоке. Дорога сделала бы возможным строительство военных баз в Забайкалье, позволила бы усилить Тихоокеанский флот за счет улучшения материально-технического снабжения во Владивостоке и создать речной флот для патрулирования Амура, являющегося естественной границей с Китаем.
Витте, на тот момент уже вышедший в отставку, рассматривал строительство железной дороги как еще один акт агрессии, и вместо этого предложил усилить защиту КВЖД, хотя это, конечно, свидетельствовало о той роли, которую он сыграл в принятии решения вести дорогу через Маньчжурию. «Военная партия», как он ее называл, куда входили царь и высшие сановники, проигнорировала это предложение. Из чего следовало, что, принимая решение о строительстве Амурской железной дороги, правительство руководствовалось более военными и политическими соображениями, нежели заботой о нуждах местных торговцев. К тому же сооружение дороги обошлось очень дорого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
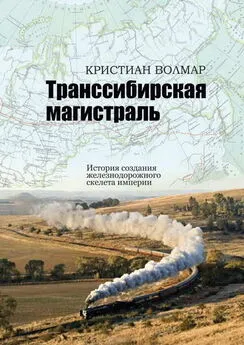


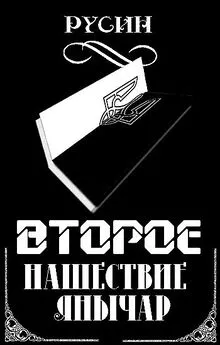
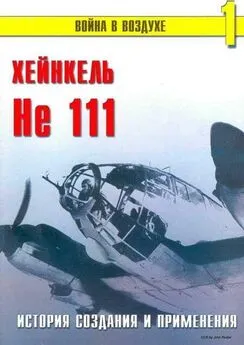

![Келси Миллер - Друзья. Больше, чем просто сериал [История создания самого популярного ситкома в истории] [litres]](/books/1073323/kelsi-miller-druzya-bolshe-chem-prosto-serial-is.webp)