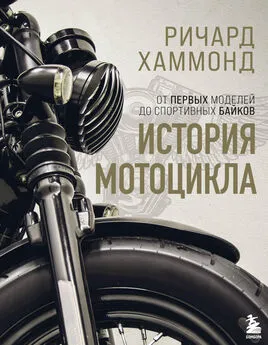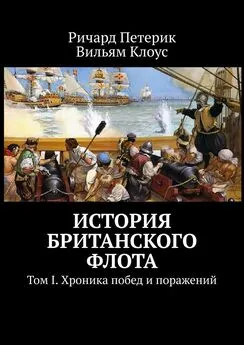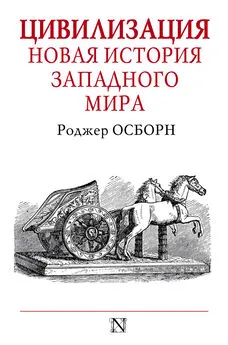Ричард Тарнас - История западного мышления
- Название:История западного мышления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КРОН-ПРЕСС
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-232-00228-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Тарнас - История западного мышления краткое содержание
Для учащихся старших классов лицеев, гимназий, студентов гуманитарных факультетов, а также для читателей, интересующихся интеллектуальной и духовной историей цивилизации.
История западного мышления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
То, что принято понимать под платонизмом, как бы вращается вокруг кардинальной доктрины — а именно утверждения о существовании архетипических Идей, или Форм. Чтобы понять суть этой теории, нам придется в значительной мере отвлечься от привычного подхода к действительности. Для этого мы должны вначале задаться вопросом: "Каким именно образом соотносятся платоновские Формы, или Идеи, и эмпирический мир повседневной действительности?" Ответ на этот вопрос обусловил и саму концепцию целиком. (Платон употреблял греческие слова "idea" и "eidos" попеременно: "idea" так и попала в латынь и английский язык, тогда как "eidos" в переводе на латинский превратилось в "forma", а в английский вошло как "form").
Для платоновского толкования прежде всего существенна первичность данных Форм, — тогда как зримые предметы обычного мира напрямую производны от них. Платоновские Формы — отнюдь не понятийные абстракции, создаваемые человеческим разумом в процессе обобщения единичных явлений. Напротив, они наделены таким качеством бытия, такой степенью реальности, в сравнении с каким конкретный мир намного проигрывает. Платоновские архетипы образуют мир — и находятся вне его. Они проявляются во времени, но сами — вне времени. Они суть мира в его сокровенной сущности, в его безотносительном бытии.
Платон учил: то, что в нашем мире мы воспринимаем как тот или иной предмет, является конкретным выражением общей Идеи — архетипа, который и наделяет данный предмет своими особыми свойствами и структурой. Любой предмет представляет ту информацию, которую несет наполняющая его Идея. Нечто может быть "прекрасным" ровно настолько, насколько в нем присутствует архетип Красоты. Если кто-то влюбляется, он распознает именно Красоту (или Афродиту) и ей подчиняется, любимый же предмет — лишь сосуд или инструмент Красоты. Архетип — сущностная составляющая явления, и именно на этом уровне пребывает глубочайший смысл.
Можно возразить, что мы переживаем подобные ситуации вовсе не так: на самом деле нас привлекает не архетип, а вполне определенная личность, или конкретное произведение искусства, или любая другая прекрасная вещь. Красота — только атрибут единичного, а не сущность его. Последователь же Платона возразит, что такое мнение вызвано ограниченным восприятием ситуации, события. Правда, скажет он, не каждый человек отдает себе отчет в существовании архетипического уровня, несмотря на реальность этого существования. Однако Платон, описывая некоего философа, предававшегося созерцанию прекрасных предметов и в течение долгого времени размышлявшего о них, утверждает, что тот способен внезапно поймать отблеск абсолютной красоты — Красоты как таковой, высшей, чистой, вечной, безусловно самостоятельной и в этом смысле не связанной ни с одним из живых существ или предметов. Так познает философ Форму, или Идею, стоящую за всеми прекрасными предметами и явлениями. Если вещь прекрасна, то лишь благодаря тому, что ей "досталась" частица абсолютной Формы Красоты.
Учитель Платона Сократ стремился найти общую основу для всех добродетельных поступков — с целью вывести формулу правильного жизненного поведения. Он рассуждал так: если ты хочешь выбирать добрые поступки, ты должен знать, что такое "добро" безотносительно к любым конкретным обстоятельствам. Если можно определить, что один поступок "лучше" другого, то подразумевается существование абсолютного Добра, с которым можно сравнивать оба "добра" относительных. Иначе слово "добро" остается в действительности лишь словом, значение которого лишено устойчивого основания; а следовательно, и человеческая нравственность теряет надежные основы. Сходным образом, если не будет абсолютной основы для определения поступков как справедливых или несправедливых — любой поступок, называемый "справедливым", будет оставаться чем-то относительным, лишенным точной оценки. Когда собеседники Сократа пользовались расхожими понятиями справедливости и несправедливости или добра и зла, он разбирал эти понятия по косточкам, показывая, насколько они спорны, полны внутренних противоречий и лишены хоть какого-то существенного основания. Поскольку Сократ и Платон считали, что для добродетельной жизни необходимо постижение добродетели, то для подлинной этики объективные и универсальные понятия Справедливости и Добра представлялись обязательными. Без таких неизменных констант, пребывающих высоко над случайностями людских обычаев и политических установлений, род человеческий лишился бы почвы для укоренения истинных ценностей и стал уязвим для всех опасностей аморального релятивизма.
Платон, обратившись вначале к размышлениям Сократа об этических понятиях и к его поиску абсолютных определений, приходит в конце концов к всеобъемлющей теории действительности. Точно так же, как в нравственной области человек ищет Идеи справедливости и добра, дабы вести правильный образ жизни, — так, побуждаемый научным интересом, он ищет другие абсолютные Идеи для постижения мира — Универсалии, которые объединяли бы и делали доступными пониманию весь хаос, поток и многообразие чувственных вещей. Цель философа включает в себя как нравственное, так и научное измерения; Идеи дают почву и тому, и другому.
Платону представлялось очевидным, что если множество предметов обладает одним и тем же свойством — как все люди "человекостью" или все белые камни "белостью", — то свойство это не ограничивается тем или иным частным явлением в мире материи, пространства и времени. Оно нематериально, не поддается пространственно-временным ограничениям и трансцендентно по отношению к множеству отдельных своих проявлений. Прекратить свое существование может та или иная вещь, но не то всеобщее свойство, которое эта вещь воплощает. Всеобщее — это некая целостность, существующая самостоятельно, отдельно от единичного, и — поскольку оно не подвержено изменениям и не может исчезнуть, — превосходящая единичное в своей реальности.
Один из критиков Платона заметил как-то: "Я вижу лошадей, а не "лошадность". На что Платон ответил: "Это оттого, что у тебя есть глаза, но нет ума". Для Платона архетипическая Лошадь, дающая вид всем лошадям, — реальность более основополагающая, нежели реальность конкретных лошадей, которые суть не более, чем частные проявления Идеи "лошадности", конкретные воплощения ее Формы. Архетип как таковой являет себя не столько перед ограниченными в своих возможностях физическими органами чувств (хотя их помощью и можно руководствоваться), сколько перед всепроникающим духовным оком — просвещенным разумом. Архетип раскрывается скорее внутреннему восприятию, чем внешнему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
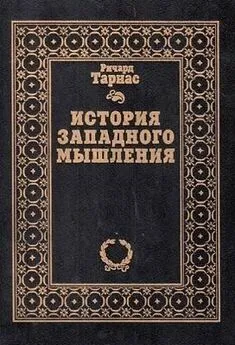

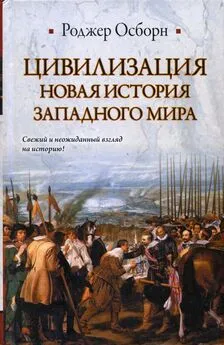
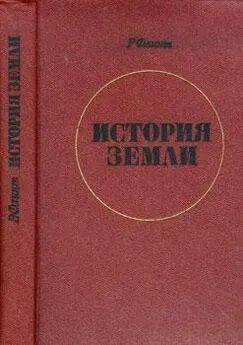
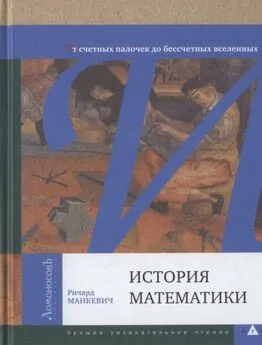
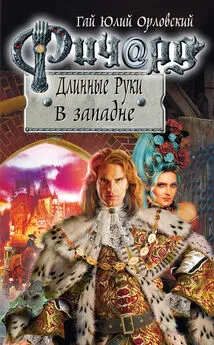
![Артур Лорентс - История западной окраины [=Вестсайдская история]](/books/1089967/artur-lorents-istoriya-zapadnoj-okrainy-vestsajds.webp)
![Артур Лорентс - Вестсайдская история [=История западной окраины]](/books/1089968/artur-lorents-vestsajdskaya-istoriya-istoriya-zapad.webp)