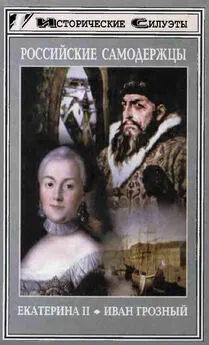Манфред Хельманн - Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный
- Название:Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Феникс
- Год:1998
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:5-222-00406-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Манфред Хельманн - Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный краткое содержание
Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[пропущены страницы в оригинальном файле]
так называемый «китай-город». Великий князь, который с момента коронации носил титул царя, отправился вместе с молодой женой в село Воробьеве. Он отдал приказание о следствии касательно причин пожара. Шуйские и их сторонники воспользовались ситуацией для того, чтобы запугать молодого царя: они обвинили семейство Глинских в организации поджога и натравили на них массы народа. Дядя Ивана IV, князь Юрий Глинский, был линчеван. Толпа, подстрекаемая Шуйскими, двинулась в Воробьево и потребовала от царя выдачи его бабки, старой княгини Анны Глинской, и ее второго сына Михаила. Иван приказал жестоко наказать главных зачинщиков и этим обратил бунтовщиков в бегство, однако несмотря на это Михаил Глинский, его дядя, не чувствовал себя в безопасности при дворе, предпринял попытку бежать в Литву, но был схвачен. Наказание было мягким, однако теперь Глинские утратили всякое влияние в окружении Ивана IV.
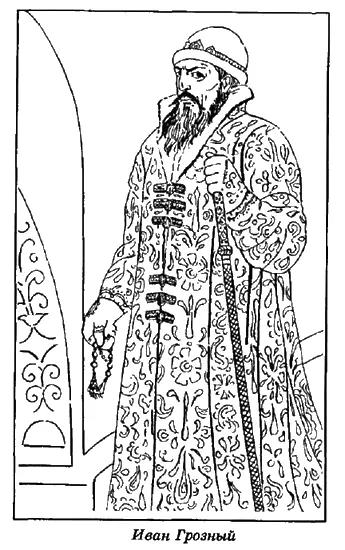
Попытка Шуйских еще раз с помощью насилия прийти к власти, предпринятая в союзе с другими боярскими семействами, в числе которых был и один из Захарьиных, дядя молодой царицы, потерпела поражение. Иван IV, на которого пожар Москвы произвел глубокое впечатление, извлек из этих событий для себя урок: по возможности не пользоваться услугами боярских семейств. Уже довольно давно продолжалось его знакомство со священником Сильвестром, который происходил из Новгорода и служил в Кремле в Благовещенском соборе. Митрополит Макарий, который, по-видимому, первым стал всерьез заботиться о духовном развитии и религиозном образовании Ивана IV, стал инициатором этого знакомства, и мальчик проникся доверием к Сильвестру. Еще одним близким другом Ивана IV в молодые годы был Алексей Федорович Адашев, сын княжеского слуги-холопа, который впервые появляется в окружении царя лишь во время его свадьбы. Вскоре он стал важнейшим советчиком Ивана, наряду с царицей Анастасией, митрополитом Макарием и Сильвестром. Этим одновременно было фактически отстранено от принятия решений существующее боярское правительство. Иван IV сам выбирал себе советников и перестал быть игрушкой в руках придворных клик. Пожар Москвы положил конец «временам хаоса».
Первый период правления
Воля молодого царя одержала верх быстрее и безоговорочнее, чем он сам, по-видимому, отваживался надеяться. В стране снова был правитель, даже если поначалу этот правитель в своих мыслях и поступках и находился под влиянием узкого круга советчиков.
Господствующей фигурой этого круга был, очевидно, митрополит Макарий. Поэтому не случайно в первые годы самостоятельного правления Ивана IV вопросы жизни церкви и ее внутренней реформы выдвинулись на передний план. На важных церковных соборах 1547 и 1549 годов было выработано и закреплено решение о самобытности и самостоятельности московской православной церкви, в том числе по отношению к константинопольскому патриархату. Был также принят единый канон почитаемых святых для сферы распространения православной церкви восточного славянства, действующий таким образом и на польско-литовских территориях, и составлены их жития. Впрочем, гигантское сочинение, возникшее в результате, — «Четьи-Минеи» («чтения ежемесячные») — не было полностью опубликовано и до наших дней. Эти ежемесячные чтения были составлены в подражание византийским образцам и представляли собой весьма объемное собрание расположенных в календарном порядке текстов из Ветхого и Нового Завета с комментариями, трудов отцов церкви, жизнеописаний святых и других традиционных религиозно-литературных источников, знание которых считалось необходимым для представителей духовных и светских сословий. Этот энциклопедический труд должен был стать одновременно вспомогательным и указующим и предоставить необходимый материал для обучения в форме, утвержденной собором. Чрезвычайно характерно, что в 1549 году были начаты и «Степенная книга», и так называемая Никоновская летопись, наиболее объемное по содержанию хронологическое собрание материалов по древней русской истории. Это были новые исторические повествования, в центре которых стояли Москва и московская династия. «Степенная книга» положила конец принципу подразделения, принятому в русской анналистике, и содержала лишь биографии сменявших друг друга московских правителей. Примечательно, что оба труда предлагали вниманию читателя известные и официозные «истории государства».
К тому времени относятся и целый ряд литературно-педагогических сочинений, разумеется, рукописных, например, «Домострой», идеализированное изображение типичной московской семьи середины XVI века. Недоверие Ивана IV к боярам, основывающееся на впечатлениях детства, усилилось благодаря неким литературным откровениям, о которых достоверно известно, что Иван имел их и читал. Это были сочинения Ивана Пересветова, одного из тех авантюристов, которые в те времена появлялись повсюду в Европе на ролях то разносчиков политических сплетен, то посредников, действующих на свой страх и риск, то публицистов. Личность Пересветова частью окутана мраком. Он принадлежал к семье мелких служилых людей, происходившей из пограничных с Литвой московских земель, повидал мир, состоял сначала на польско-литовской службе, побывал в Молдавии, пограничной с Турцией областью, а в 1538 году поступил на московскую службу. В своих закамуфлированных под исторические трактаты политических посланиях Ивану IV Пересветов в качестве примера истинного властителя восхвалял турецкого султана, который опирался прежде всего на военные круги, а не на неблагонадежных богачей и вельмож, которых, напротив, держал в узде. Таких взглядов, превозносящих абсолютную власть царя, придерживался не он один. Раздавались и другие голоса, в том числе и архиепископа Новгородского Феодосия, также призывавшие Ивана IV положить конец произволу бояр и проявить суровость. В то же время монах из Пскова Ермолай-Еразм, существование которого в окружении митрополита Макария документально доказано, напротив, призывал правителя не только к суровости, но и к милосердию и справедливости и советовал ему заботиться в особенности о нижних слоях народа, прежде всего, об угнетенных крестьянах. И он так же, как Пересветов, выступал против тех, в чьих руках были сосредоточены богатство и власть, но только осторожнее и благоразумнее, и нарисовал картину идеального в социальном отношении государства.
Справедливость — с таким требованием обратился Иван Пересветов к царю. Не подлежит сомнению, что это требование молодой царь встретил с пониманием, поскольку и сам он в период опекунского правления познал, что это значит, когда в государстве право уступает место произволу. Очевидно, он еще в юном возрасте принял решение положить конец действиям бояр. Уже в 1549 году в Москве был созван земский собор. Сообщается, что 27 февраля Иван IV выступил на нем с речью. Царь провозгласил собравшимся, среди которых были, по-видимому, только бояре и представители низших кругов аристократии, мелкого служилого люда, указ о помиловании, политической амнистии за все совершенные правонарушения. Однако это было еще не все. Непосредственно за этим был провозглашен царский указ, согласно которому мелкий служилый люд, так называемые «боярские дети», выходили из-под юрисдикции великокняжеского наместника в провинциях и городах и таким образом не подчинялись более произволу местных правителей, которые все без исключения принадлежали к боярам. Это привязывало мелкое служилое дворянство, которое еще во времена регентства Елены приобрело больший вес, исключительно ко двору и к особе царя. Разумеется, было бы ошибочным считать, что эта мера была направлена на «демократизацию», однако порой такое мнение имеет место. Для Ивана IV было важно создать в стране преданное ему и надежное окружение. Здесь могло сыграть роль то обстоятельство, что его ближайший советник по светским вопросам Алексей Адашев сам происходил из этих кругов. С уверенностью можно сказать только одно: все силы, заинтересованные в поддержании спокойствия, порядка и справедливости в московском государстве, в том числе и семья молодой царицы, однако прежде всего духовенство и мелкая придворная знать, стремились к тому, чтобы окончательно положить конец боярскому произволу. О том, насколько мало эти устремления носили характер «классовой борьбы», свидетельствует тот факт, что честные и благоразумные представители высокопоставленных боярских семейств сами участвовали в этих реформах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: