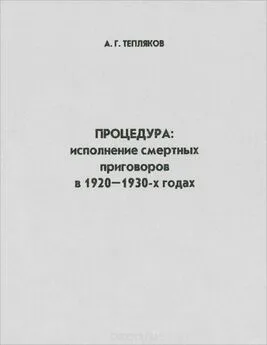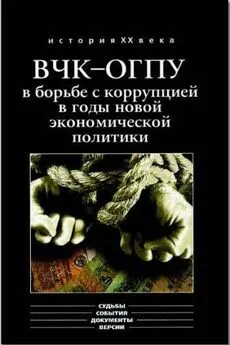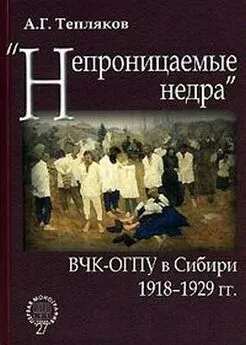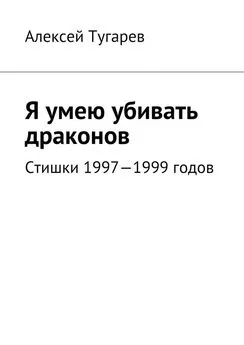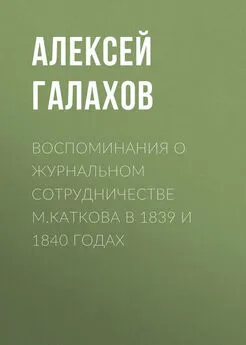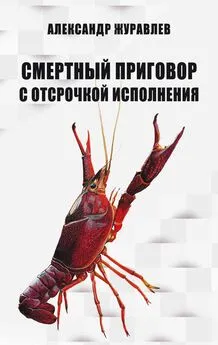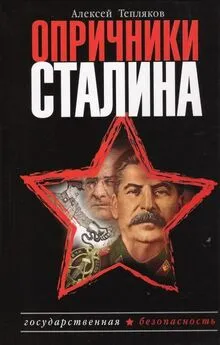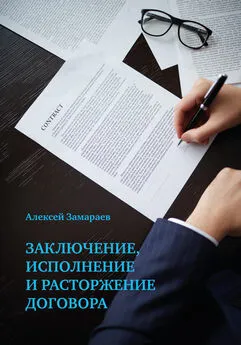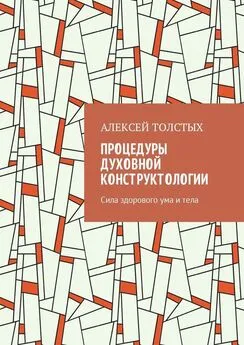Алексей Тепляков - Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах
- Название:Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Возвращение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-7157-0158-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Тепляков - Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах краткое содержание
Массовое уничтожение «контрреволюционных элементов» в ленинско-сталинские годы неизбежно породило разветвлённую расстрельную «промышленность», охватившую, по-видимому, десятки тысяч исполнителей. Смертная казнь в Советской России надолго стала бытовым явлением, и документы, относящиеся к этой теме, в изобилии обнаруживаются в ставших доступными архивных фондах.
Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот один из крайне редких для Западной Сибири 1930-х гг. случаев расстрела в присутствии врача. 8 августа 1935 г. начальник Каменской тюрьмы Классин, начальник раймилиции Кулешов, прокурор Добронравов и нарсудья Шулан расстреляли Г.К. Овотова. Врач судмедэкспертизы Соколов констатировал, что смерть осуждённого наступила только «по истечении 3-х минут». Это лишнее свидетельство того, что огнестрельное ранение головы далеко не всегда приводит к мгновенной гибели...
Местные власти, исходя из региональных особенностей, могли вносить определённые коррективы в процедуру расстрелов. Так, в Средней Азии в конце 1920-х – начале 1930-х гг. во время подавления басмачества приговоры над осуждёнными повстанцами полагалось исполнять только лицами той же национальности [11] ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 39, л. 72 об.; Глухов С. Семен Николаевич Коган // Инфо-Панорама (Ижевск). 2005, 6 янв.
. С точки зрения чекистов, такая «политическая корректность» помогала избегать возможных нежелательных толков среди многонационального населения о пришлых чужаках, которые расстреливают «наших».
«Небрежность при расстреле»
Документы свидетельствуют, что в период гражданской войны во многих губчека практиковались расстрелы политзаключённых без всякого приговора. Так, работник Енисейской губчека Дрожников весной или в начале лета 1920 г. расстрелял в Красноярске (в подвале губчека) без суда и следствия гражданина Дергачёва, обвинённого в участии в контрреволюционной организации. Следователь Тюменской губчека В.А. Колесниченко и несколько его коллег в ночь на 7 мая 1920 г. без суда и следствия расстреляли троих арестованных прямо во дворе губчека.
Власти хорошо знали о порядках, практикуемых в чекистском ведомстве. И недаром, ведь именно партийные структуры распоряжались не только жизнью, но и смертью советских людей. Сиббюро ЦК РКП(б) давало указания чекистам и трибунальцам, какую именно меру наказания вынести подследственным. Протоколы заседаний Сиббюро ЦК полны примеров прямого вмешательства главного органа власти Сибири в ожидавшиеся приговоры: одни ужесточались и по ним требовали расстрелять, другие, напротив, смягчались. Один из характернейших примеров – решение судьбы колчаковских министров весной 1920 г. Отметим, что в сентябре 1921 г. Сиббюро особо выделило из своего состава С.Е. Чуцкаева в качестве представителя в полпредство ВЧК – для совместного с чекистами санкционирования приговоров к высшей мере наказания. До того времени полпред ВЧК по Сибири И.П. Павлуновский единолично давал санкции на расстрелы осуждённых.
Власти были осведомлены как о тонкостях карательной практики, так и о сбоях в её осуществлении. Например, 12 января 1922 г. Сиббюро рассмотрело «дело Левченко, бывшего члена Омгубревтрибунала, допустившего небрежность при расстреле одного осуждённого, следствием чего оказалось, что осуждённый остался живым», постановив исключить его из РКП(б), а дело передать в ревтрибунал [12] ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 39, л. 80, 30, 67; ф. п1, оп. 2, д. 59, л. 31 об., д. 412, л. 4-7; оп. 3, д. 35, л. 5; Олех Г.Л. Кровные узы. РКП(б) и ЧК/ГПУ в первой половине 1920-х годов: механизм взаимоотношений. — Новосибирск, 1999. С. 41.
. Расстрелы производились не только в подвалах губчека, но и в укромных местах на окраинах городов – как правило, ночью. Иногда во время конвоирования осуждённым удавалось бежать. Отмечались и другие случаи , по оценке властей, чекистской «халатности» во время исполнения приговоров. Осуждённый в июне 1920 г. Алтайской губчека к высшей мере за контрреволюционные действия при белой власти Т.И. Морозов (он же В.М. Колпаков) во время расстрела получил только ранение и, лишившись сознания, упал в ров. Придя в себя, он выбрался из общей могилы и затем успешно скрывался от властей в течение пяти лет (о том, как следует поступить с обнаруженным Морозовым-Колпаковым, сибирская прокуратура в 1925 г. запрашивала вышестоящие власти).
Случаи грубых нарушений законности при исполнении приговоров отмечались и на Северном Кавказе в 1923 г., о чём свидетельствует рассмотрение в партийных контрольных инстанциях дела А.Н. Пронина, с 1919-го работавшего в ЧК-ГПУ, а с 1922 г. подвизавшегося в ревтрибуналах. В 1923 г. Пронин, будучи членом воентрибунала Терской области Северо-Кавказского военокруга, был осуждён «за допущение расстрела и зарытия живыми до постановления заранее» (формулировка хоть и косноязычная, но всё же весьма красноречивая – А.Т. ). Эта оплошность в глазах начальства выглядела пустяком: в декабре 1924-го Пронин отбыл во Владивосток на должность помощника прокурора, а в следующем году был назначен юрисконсультом Амурского губотдела полпредства ОГПУ по Дальне-Восточному краю [13] Тепляков А.Г. «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири. 1918-1929 гг. — М.: АИРО-ХХ1, 2007; ГАРФ, ф. 374, оп. 27, д. 487, л. 64.
.
Все смертные приговоры, вынесенные судебными органами, могли быть обжалованы в вышестоящие инстанции. Однако случалось, что кассационные жалобы и прошения о помиловании специально не пропускались. Так было в ходе вспышки террора осени 1934 г., когда под предлогом борьбы с «контрреволюционным саботажем хлебозаготовок» секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) Роберт Эйхе получил от Политбюро ЦК ВКП(б) право лично утверждать приговоры о высшей мере наказания, подлежавшие затем немедленному исполнению. Тогда произошёл скандальный случай с незаконным расстрелом алтайского колхозника Н.В. Лебина, осуждённого выездной сессией краевого суда к высшей мере наказания с заменой на 10 лет заключения. Председатель крайсуда, не обратив внимания на формулировку о замене ВМН на лагерный срок, доложил секретарю крайкома о большой «социальной опасности» осуждённых по этому делу и получил от Эйхе санкцию на немедленный расстрел
Отвечать за этот недосмотр, вскрытый столичным прокурором, пришлось председателю Запсибкрайсуда В.А. Бранецкому-Эртмановичу, которого сняли с должности и отдали под суд. Запсибкрайком ВКП(б) постановил, что Бранецкий совершил свой проступок «в момент исключительно тяжёлой работы» – и ограничился строгим выговором. Судебное наказание тоже оказалось символическим: общественное порицание с запретом занимать руководящие судебные должности в течение двух лет. Бранецкий устроился в Москве (в 1936 г.) заместителем директора Всесоюзной правовой академии при ЦИК СССР, а затем работал в аппарате наркомюста СССР [14] Ильиных В.А. «Казнить нельзя помиловать» (Трагическая страница хлебозаготовительной кампании 1934 г.) // Гуманитарные науки в Сибири. № 2. — Новосибирск, 2003. С. 62-67; ГАНО, ф. п-3, оп. 1, д. 6006, л. 156; Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), ф. 6, оп. 1, д. 659, л. 40; оп. 2, д. 289, л. 181-181 об.; В монографии Л.П. Белковец («Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х — 1930-е годы). — М., 1995. С. 192) ошибочно указано, что Бранецкий после Сибири «пошёл на повышение».
p>.
Интервал:
Закладка: