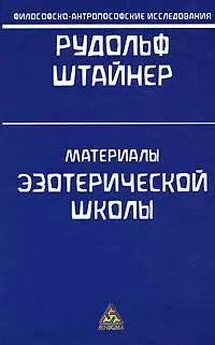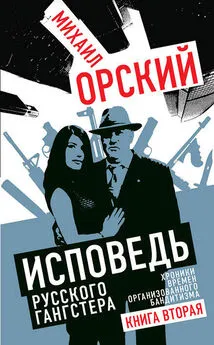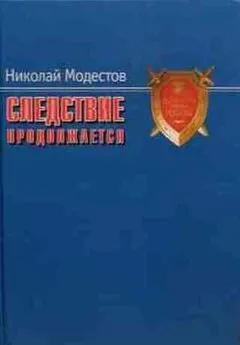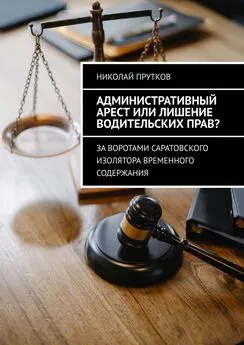Николай Митрохин - Back‑Office Михаила Суслова Или Кем И Как Производилась Идеология Брежневского Времени
- Название:Back‑Office Михаила Суслова Или Кем И Как Производилась Идеология Брежневского Времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Митрохин - Back‑Office Михаила Суслова Или Кем И Как Производилась Идеология Брежневского Времени краткое содержание
Запрос на стабильность в сфере идеологии балансировал между желанием одних групп чиновников укрепить её путём отката назад к признанию «величия Сталина» и возобновлению практики политических репрессий — и намерением других групп чиновников закрепить достигнутые свободы и без особых рывков в дальнейшем искать всё же путь к «подлинному ленинизму». Под ним понималось осторожное движение от диктатуры к модели всё более плюралистического общества, утопическому «новому НЭПу» без нэпманов, троцкистов и сталинистов. Однако большинство аппаратчиков хотело просто стабильности — спокойной работы, вежливого обращения со стороны начальства, гарантированного, говоря современным языком, «социального пакета», отсутствия тревожащих новостей в СМИ, предсказуемой внешней политики.
Управлять такой средой можно было уже без террора и чисток, оперируя лишь угрозой увольнения, зачисления в список «невыездных» или запретa на публикацию. Другой вопрос, что подобная культурная гомогенность оказалась возможна только у поколений, выросших в условиях террора и чисток.
По прошествии двух десятков лет «застоя» сразу три бывших руководителя отдела пропаганды 1960‑х–1970‑х годов, а впоследствии члены Политбюро — Лигачёв, Медведев и Яковлев — естественным образом переросли «стабильность», осознали необходимость новых реформ и обновления кадрового состава бюрократии всех уровней. Но одним из самых серьезных их заблуждений являлась твердая уверенность в том, что «пряник» советской пропаганды может (ре)формировать общество сам по себе, без «кнута» КГБ. О том, что это не так, они узнали, к счастью, слишком поздно. И узнав, к их чести, не стали поворачивать обратно.
Back‑Office Михаила Суслова Или Кем И Как Производилась Идеология Брежневского Времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Говоря о коммуникативных практиках работы в ЦК КПСС, мы видим, что принципы заказа и отбора «советских» культурных символов не базировались на каких бы то ни было письменных инструкциях или жесткой и где‑либо закрепленной системе (кодексе) идеологических норм. Де‑факто они существовали в головах их носителей. На каждом уровне иерархической вертикали чиновник разрабатывал границы того, что можно, а что нельзя, сверяясь с мнением начальства, обращая внимания на мнения коллег и экспертного круга, но и руководствуясь собственными представлениями о том, что допускает (и представляет собой) исповедуемая им идеология, которую он ассоциировал с марксизмом‑ленинизмом. Ответы бывших сотрудников аппарата на мои вопросы о прочитанной ими марксистской литературе, о значимых для них текстах, на которых опиралась их позиция и ответы на них, демонстрируют, что за редким исключением их «марксистское» образование осталось на уровне чего‑то сданного и забытого в вузе.
Тем не менее они имели представление о том, что хорошо, что плохо, что соответствует идеологии, что нет, что является советским, а что — нет. Откуда же это представление взялось?
Может быть, это результат опосредованного воздействия — через научные и политические журналы, систему образов, предложенных средствами передачи актуальной политической культуры — телевидением, кино, театром?
Опрос бывших работников ЦК КПСС об их культурных предпочтениях и источниках информации о событиях в мире демонстрируют удивительную бедность таковых. Да, они все читали газету «Правда», чтобы быть в курсе актуальной политической повестки дня. Но подобные газеты не формируют мировоззрение. Научные журналы, включая партийный теоретический журнал «Коммунист», из них читали единицы. Художественная литература, выходящая за пределы насущной профессиональной необходимости, за исключением отдельных «прозвучавших» произведений (и то в эпоху перестройки), у них популярностью не пользовалась. На книги, по словам респондентов, просто не хватало времени и сил, после целого дня чтения деловых бумаг и другой интенсивной интеллектуальной деятельности.
Телевидение они смотрели гораздо меньше, чем обычные советские зрители — поскольку обычно возвращались с работы домой к вечерней программе «Время» и должны были довольно рано ложиться спать, чтобы не позже 9 утра быть на работе. Всё, что им запомнилось из советского телевидения этого периода, — спортивные программы и детективные телесериалы. На выходных большинство из них уезжало в санатории ЦК, где они предпочитали тратить время на прогулки в парке, занятия спортом, игру в бильярд.
В качестве единственного источника систематического культурного воздействия значительное количество опрошенных работников аппарата указали театры. Благо добыть билет на любой спектакль им не составляло никакого труда через театральную кассу ЦК КПСС. Однако ходили они в основном на классические спектакли или на постановки западных авторов. Актуальные советские пьесы их особенно не интересовали (кроме постановок престижного Театра на Таганке, да и то у меньшинства из «театралов»).
Между тем, несмотря на разницу в политических позициях, у работников аппарата ЦК КПСС наблюдалась определенная культурная гомогенность, заявленная, в частности, в их интервью и мемуарах. Они были действительно советскими людьми. Как же всё‑таки это сформировалoсь?
Ответ на этот вопрос можно найти, если рассмотреть социальный и возрастной состав сотрудников аппарата. Работники аппарата ЦК КПСС 1965‑1985 годов были гомогенной группой не только с точки зрения культурных, но и социальных показателей. Комплекс из 191 подробных биографий работников ЦК КПСС этого периода (из них работники идеологических отделов — 54), составленных на основе интервью, мемуаров и сведений, предоставленных мне родственниками, даёт удивительно однородную картину.
Это в основном мужчины, пришедшие в аппарат ЦК КПСС в возрасте около 35‑40 лет. На более чем 85 % это русские, восточные украинцы, белорусы, которые в трех поколениях вообще не имеют никаких иноэтничных предков (или не знают о них). 70 % из них выросли в семьях от среднего и высшего класса сталинского времени. Их родители работали в диапазоне от бухгалтера предприятия, армейского офицера, председателя колхоза до директора завода и заместителя министра. По своему социальному происхождению родители в равной степени (и нередко в рамках одного брака) представляли дореволюционный средний (иногда — высший) класс и новых «служащих», сделавших советскую карьеру благодаря участию в революции, Гражданской войне или прокоммунистическому активизму (комбеды, исполкомы, комсомол, служба в армии и ОГПУ‑НКВД) в 1920‑е годы. Как минимум 76,1 % будущих работников ЦК КПСС имели полную семью до момента окончания школы.
Спецификой собственно отдела пропаганды является то, что весомая часть его сотрудников вышла из семей с высоким уровнем интереса либо к политике, либо к религии. Так, например, пять сотрудников отдела пропаганды, из 36, чьи биографии вошли в рассматриваемый биографический массив (и лишь в двух случаях — сотрудники других отделов), заявили о своём родстве с видными политическими деятелями дореволюционного времени. В их числе оказались трое депутатов Государственной думы от разных левых партий [44] Н. Биккенин (брат деда по матери — депутат фракции кадетов от Оренбургской губернии Зигангир Нургалиевич Байбурин (1852–1915), врач, лидер панисламистской политической организации), В. Костров (прадед по отцу — Андрей Михайлович Костров (1856‑не ранее 1916), волостной старшина и член ростовской земской управы, оптовый торговец, депутат фракции кадетов первой государственной думы), В. Михайлов (муж правнучки депутата от фракции трудовиков первой государственной думы, учителя, мирового судьи Кирилла Семёновича Нечипоренко (1855‑не ранее 1916)).
. Кроме того, упоминавшийся выше Алексей Козловский был внучатым племянникoм двух членов Государственного совета Российской империи, а Юрий Сапожников — внукoм видного народовольца, ставшего затем заметным эсером на Юге России [45] Предоставленные сведения были проверены и получили подтверждение.
.
Что касается интереса к религиозности, то в этом отношении сотрудники отдела пропаганды были не уникальны, в других отделах также были люди с детским религиозным опытом или воспитанныe в религиозных семьях, однако в процентном отношении сотрудники отдела пропаганды составляют около 80 % от числа людей, заявивших об этом.
Другой вопрос, что будущие работники отдела примерно к 12 годам разрывали все связи с прошлым — как религиозным, так и «несоветским»‑семейным. Сохраняя высокий уровень интереса к абстрактным идеям, они переключались на новую веру, которая «сияющей дорогой строительства коммунизма» твердо вела их к социальному успеху.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: