Мария Неклюдова - Искусство частной жизни. Век Людовика XIV
- Название:Искусство частной жизни. Век Людовика XIV
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОГИ
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-94282-440-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Неклюдова - Искусство частной жизни. Век Людовика XIV краткое содержание
Искусство частной жизни. Век Людовика XIV - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Помимо зрелища ночных колпаков маркиз де Пизани предложил сестре угощение: обычно так назывались лакомства, подававшиеся между дневной и вечерней трапезой. Нередко их устраивали кавалеры, ухаживая за дамами (госпожа де Скюдери в своей беседе «О разговоре» упоминает о том, что недостаточная щедрость угощения могла не только бросить тень на репутацию кавалера, но и заставить усомниться в красоте дамы), однако в большинстве случаев небольшие праздники такого рода были проявлением гостеприимства, симпатии — всего того, что обозначалось словом «галантность». Иными словами, розыгрыш маркиза де Пизани строился на совмещении двух смысловых рядов: низкой жизни плоти, представленной ночными колпаками, и светской общительности, образчиком которой не случайно оказывается «угощение». В отличие от регулярных трапез, оно не было связано с прагматикой телесного существования, и именно этот избыточный, необязательный характер превращал его в один из инструментов социабельности. Принимая приглашение брата, мадмуазель д’Аркене могла ожидать какого-нибудь сюрприза. Все семейство отличалось вкусом к розыгрышам: госпожа де Рамбуйе любила удивлять своих гостей то явлением нимф в парке загородного дома, то неожиданной пристройкой к городскому особняку, сделанной втайне от многочисленных посетителей «голубой комнаты». Поэтому, даже подозревая подвох, мадмуазель д’Аркене, скорее всего, ожидала от брата какой-нибудь галантной шутки. Между тем он сыграл на бытовой близости их отношений (живя под одной крышей, они вполне могли видеть друг друга в спальных уборах). В запертой комнате, среди мужчин в ночных колпаках, мадмуазель д’Аркене оказывается в своеобразной жизненной ловушке, ожидавшей любую женщину, за исключением тех, кто, как она, выбирал монастырь.
Выходка маркиза де Пизани напоминает еще об одном существенном нюансе: в отличие от салона — основного пространства «частной публичности», где царила галантность и кавалеры во всем подчинялись воле дам, во внутренних покоях, где разворачивались собственно семейные отношения, женщины повиновались мужчинам. Что бы ни делала и ни говорила мадмуазель д’Аркене, брат вынуждал ее поступать так, как угодно ему. Конечно, не имеет смысла излишне драматизировать эту ситуацию, тем не менее она весьма показательна. Салонная культура во многом была делом рук женщин, стремившихся вырваться за пределы семейного круга. Можно сказать, что если мужчины обращались к идеалу частной жизни из-за того, что их не устраивали изменения в публичной сфере, то женщинами двигало желание избежать ловушки исключительно частного существования. В этом смысле идеал «частной публичности» помогал уйти от слишком жесткого разграничения возможностей гендерных ролей.
Здесь необходимо вернуться к проблеме «прециозности». Как подчеркивают многие современные исследователи, границы этого явления весьма неопределенны, вследствие чего одни идентифицируют его с салонной культурой в целом, а другие считают выдумкой Мольера, превратившейся в своеобразный культурный миф. По всей видимости, до «Смешных жеманниц» (1659) — буквально «Смешных прециозниц» — определение «прециозный» (в прямом значении слова — «драгоценный») порой прилагалось к дамам высшего сословия, отличавшимся умом и образованностью (то есть, если развернуть эту метафору, к тем, кто своими незаурядными качествами блистал на общем фоне, подобно драгоценным камням). После Мольера слово приобрело иронический и негативный оттенок, став обозначением излишней вычурности поведения, манеры держать себя и в особенности речи. Подобно «человеку достойному», прециозница представляла собой идеальный тип, соединявший в себе комплекс черт, которые в жизни встречались лишь по отдельности. Поэтому ни одну даму XVII столетия невозможно охарактеризовать как прециозницу, не сделав при этом дополнительных оговорок. Так, близка к этому идеалу была старшая дочь госпожи де Рамбуйе, Жюли д’Анженн, в честь которой в 1633–1641 гг. была собрана знаменитая «Гирлянда Юлии» — шестьдесят два мадригала, написанные лучшими поэтами эпохи. Как можно догадаться по ее неприязни к ночным колпакам, она скептически относилась к браку и согласилась выйти замуж за герцога де Монтозье лишь после четырнадцати лет его упорных ухаживаний. Однако, став герцогиней де Монтозье, окунулась в придворные дрязги и занялась карьерой мужа, бывшего не только губернатором двух провинций, но и воспитателем дофина. При дворе прециозница превратилась в интриганку.
Негативное отношение к браку — характерная черта прециозности. Как говорит в мольеровской пьесе одна из героинь, которую отец собирается выдать замуж за человека, представленного ей впервые, «пристало ли чуть не с первой встречи вступать в брачный союз, сочетать любовь с заключением брачного договора, роман начинать с конца?». На что получает ответ: «Или вы без всяких разговоров пойдете под венец, или, черт возьми, я вас упрячу в монастырь». [72] Пер. с фр. Н. Яковлевой.
Действительно, жизненный выбор женщины нередко сводился к этим двум возможностям. Обе зависели от уровня семейного благосостояния: не только супружество, но и уход в монастырь предполагали уплату «приданого», которое в последнем случае вносилось в монастырскую казну в качестве вступительного взноса (как писал Лабрюйер, «сколько на свете было девушек — добродетельных, здоровых, набожных, готовых посвятить себя Богу, но недостаточно богатых, чтобы принести обет бедности в богатом монастыре!»). [73] Лабрюйер Ж. де . Характеры… С. 404.
После Тридентского собора в католической Европе увеличилось количество женских монастырей, что было связано с заботой о духовном воспитании этой части общества. Не следует забывать, что жизнь в монастыре не обязательно означала постриг. В монастырских школах получали образование девочки из состоятельных семей, в монастырских общинах находили приют женщины, скрывавшиеся от семейных притеснений и не желавшие при этом потерять репутацию. Так, когда племянница кардинала Мазарини, Мария Манчини, сбежала от своего мужа, Людовик XIV позволил ей находиться во Франции при условии, что она будет жить в монастыре. [74] См.: Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini / Ed. par G. Doscot. Paris: Mercure de France, 2003. P. 163–164.
Кроме того, как показывает концовка «Принцессы Клевской» госпожи де Лафайет, для вдов жизнь в обители могла служить альтернативой повторному браку, авторитет церкви защищал женщину от возможного давления со стороны родственников и друзей. Заметим, что героиня романа, деля время между монастырем и своим поместьем, где она проводила время «в уединении и в занятиях более благочестивых, чем те, которым предаются в монастырях с самым строгим уставом», [75] Лафайет М.-М. де . Принцесса Клевская / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург // Лафайет М.-М . де . Сочинения. М.: Ладомир; Наука, 2007. С. 314.
тем не менее не принимает постриг. По всей видимости, она все же не ощущала себя душевно свободной от мирских помыслов. Во второй половине XVII в. считалось, что для принесения обета следовало иметь внутреннее призвание, в отсутствие которого монашеское состояние было способно обернуться большим грехом, нежели жизнь в миру. По словам Лабрюйера,
Интервал:
Закладка:
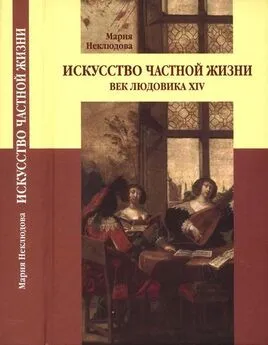

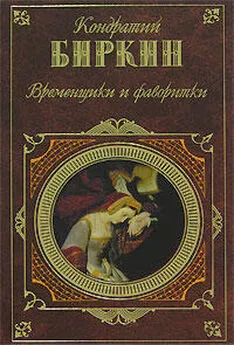
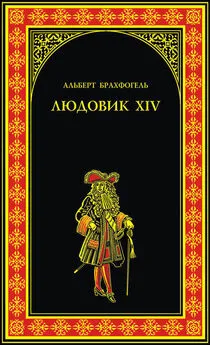
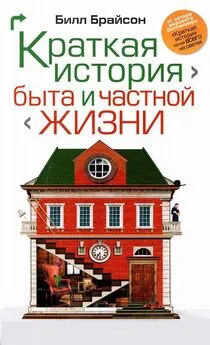
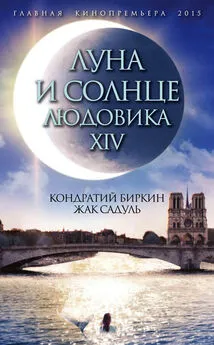
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)

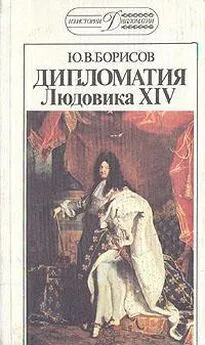
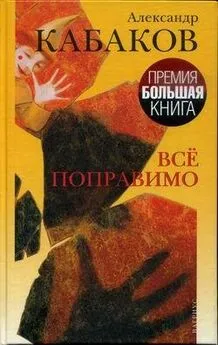
![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/1146943/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i.webp)