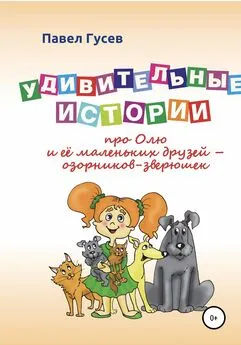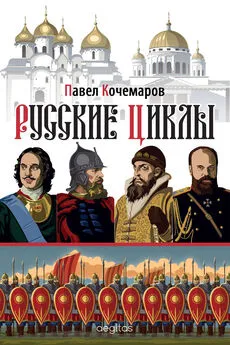Павел Кочемаров - Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория этногенеза
- Название:Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория этногенеза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Грифон
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98862-333-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Кочемаров - Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория этногенеза краткое содержание
Для этнической идентификации не важно, где человек родился и кто были его родители. Важно – в какой этнической среде прошло становление конкретной личности. Этнос даётся человеку в раннем возрасте без его сознательного выбора, раз и навсегда. Человек может сменить страну, гражданство, язык, религию, а этнос – нет; родителей не выбирают, этнос – тоже…
Для читателей, которые интересуются проблемами древней и современной истории.
Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория этногенеза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В обществе атомизированном, распавшемся на независимых и отчуждённых субъектов, людей реально ничего не связывает, а общее благо здесь вещь абстрактная. По мере перехода западных стран к такому обществу умирает и гражданское сознание. Затемняется даже сам смысл термина «гражданское общество». Ведь то, что разумеют под этим на Западе, вообще имеет отдалённое к нему отношение; это скорее общество частных отношений, индивидуальное или индивидуумное общество, – так вернее его определить.
Западные идеологи настолько исказили сущность и смысл понятий, что уже сами не замечают, какую нелепицу они временами несут. Вот, к примеру, что утверждает Пайпс: «Граждане древних Афин обладали политическими, но не гражданскими правами, а привилегированные подданные некоторых просвещённых деспотов были наделены правами гражданскими, но неполитическими» [60]. Итак, по Пайпсу, граждане гражданскими правами не обладали, а неграждане (подданные деспотии) гражданскими правами обладали. Большего абсурда нарочно измыслить невозможно! Браво, мистер Пайпс! Уже отсюда можно понять, что все подобные идеологи отстаивают не гражданское общество и не демократию, а прокладывают путь «просвещённой» деспотии, «привилегированными подданными» которой они себя видят.
Словно вовсе позабыв о сути феномена гражданственности, западные политологи и их российские выученики валят в одну кучу и объявляют гражданскими все человеческие связи, – только бы они не имели отношения к государству. Кто-то объявляет институтом гражданского общества уже и семью (причём важнейшим институтом!). Можно поздравить господ учёных с таким открытием; в таком случае одним из образцов гражданского общества может служить хоть Османская империя, ибо у турок, по свидетельству очевидцев, были весьма крепкие семьи. Другие называют гражданское общество феноменом буржуазным, хотя сама суть буржуазности состоит в освобождении от всех связей вообще, выпячивании на первый план своей индивидуальной личности и поставлении её над всяким обществом.
Толкование гражданского общества как сферы, независимой лишь от государства, – это явное сужение понятия, а значит – искажение его смысла. Гражданский статус предполагает свободу не только от государства, но и от частных лиц или групп. Ведь рабы – тоже люди, независимые от государства. В современной западной публицистике если речь заходит о свободе, то рассуждают исключительно о свободе от государства, – как бы молчаливо подразумевается, что в прочих отношениях нет никаких проблем. А так ли это? Разве не существует на Западе хотя и не формальная, но вполне реальная зависимость работника от нанимателя, причём наниматель может быть частным лицом или частной корпорацией? В условиях растущей безработицы и дороговизны жизни такая зависимость, под угрозой увольнения, для многих наёмных работников весьма серьёзна. Да и не только для наёмных работников; многие мелкие предприниматели работают на конкретные крупные фирмы, и найти нового подрядчика им не так-то просто, либо находятся в кредитной кабале у банков.
Вообще, в вопросе о свободе человека в этом мире куда ни кинь – всюду клин, опасность подстерегает на каждом шагу. В конечном счёте приходится вести речь не о полной свободе, которая остаётся в области идеального, а о выборе той или другой формы зависимости. Личная свобода – настолько обширное понятие, что никакое этническое сознание не в состоянии вместить его целиком; сознание каждого конкретного этноса делает акцент на том или другом аспекте личной свободы. Так, граждане античного полиса вовсе не заботились о независимости от государства, зато всячески избегали частной зависимости. Идеалом античного гражданина был человек хотя и скромного достатка, но хозяйственно самостоятельный и независимый от других граждан. Быть на службе не у государства, а у частного лица, хотя бы и за хорошее вознаграждение, считалось унизительным. В случае если сохранить хозяйственную самостоятельность не удавалось, афинский гражданин предпочитал перебиваться скудными пособиями государства, но не наниматься на работу к своему согражданину. В Европе и вообще на Западе дело обстоит как раз наоборот. Судя по всему, там люди вполне спокойно относятся к частной зависимости (в Средние века частная служба даже для титулованной знати была в порядке вещей), но очень чувствительны к зависимости от государства.
Гордые европейцы всегда превозносились над русскими людьми, утверждая, что у них-де – свобода, а в варварской России – ничего, кроме рабства. Это некоторым образом недоразумение. В России люди также обладали свободой, только свободы у русаков и европейцев были разные. Следующее утверждение из времён Смутного времени хорошо иллюстрирует эту разницу. В ответ на похвальбу поляков своей «вольностью» москвичи ответили им так: «Вам дорога ваша вольность, а нам дорога наша неволя. У вас не вольность, а своевольство. Вы думаете, что мы не знаем, как у вас сильный давит слабого, может у него отнять имение, самого убить! А как по вашему праву начать на нём иск, так протянутся десятки лет, пока приговор выйдет, – а другой и никогда не дождётся его! У нас же самый богатый боярин ничего не может сделать самому последнему человеку, потому что по первой жалобе защитит от него царь. А если сам царь поступит со мной несправедливо, то ему всё вольно делать, как Богу: он и карает, и милует. Тяжело от своего брата терпеть, а когда меня сам царь накажет, то ведь он на то государь, над которым нет большаго на земле; он солнце праведное, светило русское» [61]. Добавлю, что последние слова свидетельствуют вовсе не о рабском пресмыкании перед всякой державной силой. Русские безусловно повиновались царю не какому-то, а православному; в соответствии с православной политической доктриной самодержавная власть в государстве принадлежала ему по праву. Державная власть царя охраняла и утверждала православие. Россия – православная держава, а каждый русский человек – гражданин своей православной державы и как таковой равен всякому другому русскому. В этом и заключалась свобода чувства и поведения русского человека, которая, если и не получила официального оформления, интуитивно ощущалась всяким. И когда в Смутное время не стало царя, это гражданское чувство вышло наружу и ясно проявилось в деятельности Земского правительства. Очевидно, сколь легковесны были надежды иезуитов обратить русских людей в католичество, действуя через подставленного ими царя, которому, как они полагали, рабски покорствует народ. Неправославный царь не имел никаких шансов удержаться на престоле.
Именно это свободное гражданское чувство было источником той почти неистощимой выносливости, которую русский мужик проявлял в отношении тягот, накладываемых государством, – что иноземцам казалось рабством. И именно гражданское чувство русского крестьянина противилось феодальному укладу, вводимому европеизированным барином. Крепостное рабство так никогда и не стало легитимным институтом в сознании русского народа. Это ясно выразил сподвижник Петра I крестьянин Посошков: «Крестьянам помещики не вековые владельцы… а прямой их владетель всероссийский самодержец, а они владеют временно». Так что когда крестьяне восставали против помещичьей власти, то их бунт если и был «беспощадным», то вовсе не «бессмысленным», – как это казалось помещику Пушкину. Как видим, не либеральные европеизированные господа, а их «тёмные» крепостные мужики были носителями подлинного русского гражданского чувства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
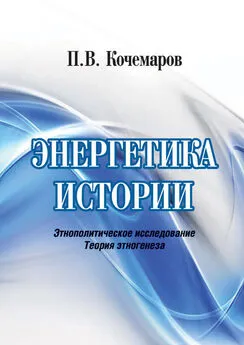




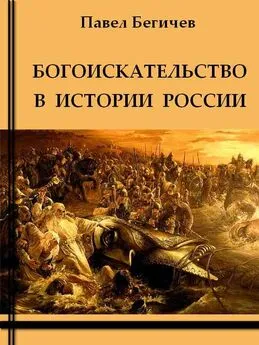
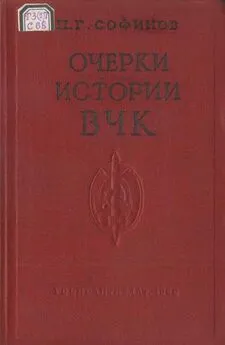

![Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)