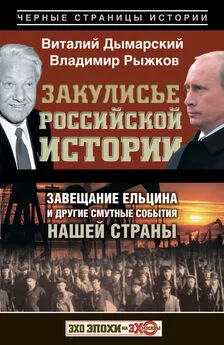Владимир Муравьев - Московские легенды. По заветной дороге российской истории
- Название:Московские легенды. По заветной дороге российской истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-38528-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Муравьев - Московские легенды. По заветной дороге российской истории краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся Москвой и ее историей.
Московские легенды. По заветной дороге российской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сретенский бульвар — неотъемлемая часть Сретенки и ее района, на бульваре вырастали сретенские ребята, в довоенные годы здесь по праздникам играла музыка, в послевоенные в летнее время открывались павильоны Тургеневской библиотеки-читальни, и они никогда не пустовали. Вообще-то Сретенский бульвар многим, никогда на нем не бывавшим, известен по картине художника-передвижника Владимира Егоровича Маковского «На бульваре» (1887). На ней изображены сидящие на бульварной лавочке подвыпивший мастеровой, наигрывающий на гармошке, и его жена, в платке, длинном кафтане, с грудным ребенком в лоскутном одеяле на руках. Художник А. А. Киселев о персонажах картины Маковского писал: «Подобные пары можно наблюдать ежедневно на бульварах Москвы, примыкающих к Трубе, Сретенке и Мясницкой и переполненных рабочим и фабричным людом, почему наша так называемая порядочная публика не любит избирать эти бульвары местом своих прогулок». На картине Маковского изображен именно Сретенский бульвар, пейзаж за спиной мастерового и женщины, хотя и несколько изменился к настоящему времени, легко узнаваем.
Среди публики Сретенского бульвара очень заметную прослойку составляли студенты и художники — ученики Училища живописи, ваяния и зодчества. Да и Маковский был его учеником, а затем профессором. Бульвар служил продолжением аудиторий: на нем продолжались разговоры обо всем, что занимало молодых художников.
В автобиографии В. В. Маяковского отмечен важнейший эпизод его жизни. Речь идет об осени 1912 года, когда Маяковский и Давид Бурлюк учились в Училище живописи.
«Днем у меня вышло стихотворение, — пишет Маяковский. — Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: „Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!“ Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер и совершенно неожиданно я стал поэтом.
Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: „Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский“. Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: „Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение“.
Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) — „Багровый и белый“ и другие».

Собственно Сретенка

Сухарева башня и церковь Троицы в Листах. Фотогрфия конца ХIХ в.
Москва, как и каждый большой исторический город, представляет собой конгломерат многих отдельных частей, существующих и развивающихся в разной степени самостоятельно и замкнуто. Раньше это были слободы, деревни и села (в состав Москвы доныне входят административные единицы, официально имеющие названия: поселок и деревня), урочища, усадьбы. В настоящее время в числе территориальных частей Москвы, кроме района, существуют неофициальные, но тем не менее бесспорные единицы: улица с переулками, отдельно улица и отдельно переулок, отдельный дом (иногда со двором). Каждая из этих небольших территорий проходит свой исторический путь, со своими событиями, героями, преданиями и мифами. На фоне общей городской судьбы она имеет свою судьбу, и ее благополучные или плохие времена не всегда совпадают с общегородскими.
Поэтому пишутся книги и статьи об улице, переулке, доме, вызывающие обычно большой интерес у москвичей и, понятно, особенный — у жителей этого района. Паустовский, сравнивая судьбы домов с людскими, писал: «История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и бывают свидетелями нескольких людских поколений».
Сретенка принадлежит к числу самых известных московских улиц. Известностью своей у современных москвичей она в первую очередь обязана названию. Ю. Нагибин, рассказывая о Сретенке, пишет: «Ничего примечательного вы здесь не обнаружите, кроме церкви при выезде на Сухаревскую площадь. Церковь носит странное название Троицы в Листах». (Заметим, что даже в церкви автор отметил не ее архитектуру, а «странное название».) Менее категорично, но, в общем, в том же тоне говорит о Сретенке москвовед Ю. А. Федосюк в путеводителе «Москва в кольце Садовых», изданном в 1991 году: «Описывать биографию сретенских домов — дело трудное и неблагодарное. Стены многих из них стоят еще с XVIII века, постройки обновлялись и видоизменялись в зависимости от возможностей и вкусов часто менявшихся владельцев… К тому же ценных памятников архитектуры тут немного».
Итак, застройка Сретенки — типичная, употребляя термин историка архитектуры — рядовая застройка. Имена часто менявшихся владельцев домов и еще чаще менявшихся жильцов весьма скупо отразились в документах: «Я пытался выяснить, кто из знаменитостей жил на улицах, о которых идет рассказ, — пишет Нагибин, говоря о Большой Лубянке и Сретенке. — Урожай оказался на редкость скуден». Он называет всего три имени: художника Пукирева, скульптора Волнухина и актера Мочалова, жене которого принадлежал дом № 16 по Сретенке.
Как в жизни человека бывает свой звездный час — событие, в котором особенно ярко и полно раскрывается его характер или талант, так бывает звездный час в истории улицы, когда она обретает свой оригинальный, гармоничный, сочетающий внешние черты и внутреннее содержание образ. Сретенка обрела свой по-московски своеобразный и совершенный вид в первое десятилетие XX века.
Первыми и единственными тогда его заметили фотографы: среди многочисленных серий открыток, изображающих московские пейзажи, появились и открытки Сретенки, которых прежде не издавали. Издатели открыток, словно сомневаясь в праве этого сюжета занять место в серии московских пейзажей наряду с Тверской и Пречистенкой, в первых изданиях в подписи к открытке указывали не название улицы, а деталь пейзажа — признанную достопримечательность города: «Вид Сухаревой башни». Но вскоре на том же самом сюжете, снятом с той же точки, можно было прочесть его точное и правильное название: «Сретенка».

Вид Сретенки с Садового кольца. Фотография 2001 г.
Чтобы сложившийся и наполненный глубоким содержанием городской образ был замечен, осознан, принят и по достоинству оценен горожанами и в литературе, требуется долгий срок. Понимание и признание приходят после того, как он пройдет проверку временем и станет восприниматься традиционным. Так образ «арбатских переулков» — как символ дворянской пушкинской Москвы — был принят обществом и отразился в литературе лишь в конце XIX — начале XX века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





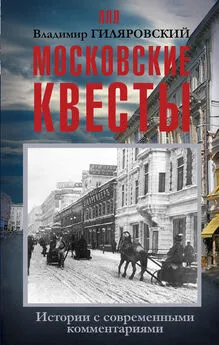



![Владимир Муравьев - Во времена Перуна [Повесть-легенда]](/books/1095938/vladimir-muravev-vo-vremena-peruna-povest.webp)