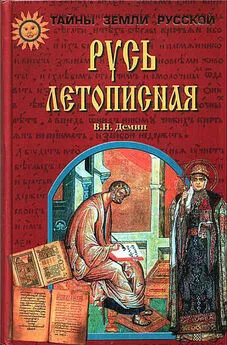Валерий Демин - Русь Летописная
- Название:Русь Летописная
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Вече»
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7838-1126-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание
Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О том, что древнее индоевропейское божество Дан (Дон) было связано в первую очередь с водной стихией, свидетельствует и имя морского владыки из осетинского нартского эпоса — Донбеттыр, с которым связано несколько наиболее архаичных сказаний. Однако есть все основания предполагать, что благостно-дарующие (дающие) божества с корнем «дан» характерны для конкретного этапа распада индоевропейской этнолингвистической и религиозно-культурной общности. Во всяком случае благостно-божественный «оттенок» теонимы и гидронимы с коренной основой «дан» («дон») имеют лишь в ареале расселения иранских, славянских, кельтских, греческих племен и этносов. Для древнеиндийского же мировоззрения присуща иная тенденция. Здесь архаичный корень «дан» образует собирательное название злокозненных и вредоносных существ данавов, демонов-гигантов, сопряженных с Вритрой — главным врагом великого бога Индры. Матерью Вритры и данавов в Ригведе названа демоница Дану (дословно переводится с санскрита как «влага»). Все они связаны с водной стихией.
Здесь налицо обычный прием демонизации, когда после дифференциации этносов, верований, языков и культур наступает период противостояния и вражды некогда единых народов и как результат — дискредитация их идеологии и объектов культа. Так было при распаде индоиранской общности, после миграции ее с севера на юг, когда одни и те же прежде единые божества превратились в существ «с обратным знаком». Аналогичные метаморфозы произошли и с богиней Дану. Первоначально в верованиях нерасчлененного индоевропейского пранарода она выступала богиней водной стихии, Матерью воды (наподобие карело-финской Ильматар) и одновременно Праматерью людей. В дальнейшем же, когда этносы обособились, начались идеологические распри, смертельная вражда и кровопролитные войны, у одних (кельтов) Дану так и осталась Великой богиней, у других же (индийцев) она превратилась в демоницу, породившую целый сонм таких же злокозненных демонов данавов.
В дальнейшем в мировой мифологии появляется целая череда героев и персонажей с аналогичной корневой основой, но они уже не носят столь явственно выраженного идеологического клейма, хотя подчас и не лишены трагического оттенка. Таков известный древнегреческий миф о египетском царе Данае и его 50 дочерях — Данаид. По наущению отца последние закололи кинжалами в первую же брачную ночь своих мужей (кроме одного, отомстившего впоследствии за убитых братьев), и за содеянное их постигла вечная кара: после смерти они были обречены в аду (аиде) наполнять водой бездонную бочку («бочка Данаид»).
Еще более популярен был миф о Данае, дочери аргосского царя, запертой им в темницу. Туда проник Зевс, обратившись в солнечные лучи, и от того света Даная родила будущего героя Эллады Персея — победителя Горгоны Медусы. Сходный миф обнаруживается и в недрах совершенно иной неиндоевропейской культуры. В китайских народных поверьях излюбленным образом является Данай Фужень — богиня, помогающая при родах. Образ этот проистекает из цикла сказаний о великой богине Гуань-инь. По преданиям, Данай Фужень родилась от луча света, исходящего из пальца Гуань-инь и попавшего в утробу матери. В русле развиваемой здесь концепции моногенеза всех народов мира, их языков и культур представляется совсем не случайным сходство сюжетов (рождение от луча света) и имен — Даная и Данай (дословно «большая бабушка») Фужень. Любопытно, что корень «дан» присутствует и в имени Данко, легенду о котором и его огненосном сердце поведала молодому Максиму Горькому старуха Изергиль.
Отголоски других представлений о божествах, общие для кельтов и славян, сохранились до наших дней. Среди них целый пласт сказаний об оборотничестве: наиболее колоритные образы богов-оборотней были как раз присущи кельтской мифологии.
В русском фольклоре к древним общеиндоевропейским истокам восходят, к примеру, все до боли знакомые сюжетные повороты типа «ударился о землю и обернулся: соколом, волком, туром, горностаем, щукой или муравьем». Причем конкретное животное здесь необязательно должно обозначать живую птицу, зверя, рыбу, насекомое — речь может идти и о родовом тотеме. Особенно широко были распространены, вплоть до недавнего времени, суеверия о превращениях людей в волков, по-славянски — в волкодлаков. Подобные мифы были известны и у кельтов. Древнейшее свидетельство о волках-оборотнях есть у Геродота, который упоминал, что невры — предположительно предки славян — почитались у греков и скифов чародеями, умеющими раз в году — как правило зимой — на несколько дней обращаться в волков. Такое же поверье еще в XIX веке существовало у поляков, сербов и русских, которые считали что волки-оборотни особенно опасны в период Святок, посреди зимы. Смешавшись с толпой ряженых, они принимают вид парней и девушек, скоморохов и проникают таким образом в любой дом. Волкодлаки также подкрадываются к гадающим девушкам и также заедают их насмерть. Оборотни задают девушкам на Святки трудные задачи во время святочных игр, о судьбе тех, кто их не разгадает, ничего не известно.
В Древней Руси, по данным Кормчей книги, люди думали, что волкодлаки, обернувшись тучами, закрывали луну и солнце («влъкодлаци лоуну изъедоша или слънце»). Способностью превращаться в волков наделялись многие эпические герои: легендарный князь Всеслав, историческим прототипом которого был князь Полоцкий (XI век); былинный Волх Всеславьевич (Вольга); сербский Змей Огненный Волк и др. На этой мифологической основе в средневековой Европе даже существовал особый вид умопомешательства — ликантропия: больные этой болезнью воображали себя волками. По мнению А.Н. Афанасьева, «волкодлак» состоит из слов: «волк» и «длака» — шерсть, руно, клок волос. Человека-волкодлака можно было узнать по шерсти, растущей у него под языком. Рассказы о волкодлаках распространены преимущественно в центральных и южных районах России, для Русского Севера этот образ не типичен.
Невольный волкодлак — человек, по злобе колдуна превращенный в волка на определенный срок или до тех пор, пока чародей не пожелает вернуть своей жертве прежний облик, — часто бродит возле родного дома, не боясь людей, заглядывает им в глаза. Брошенный кусок мяса такой волкодлак не берет, но с жадностью ест хлеб. Колдуны иногда обращают в волков целые свадебные поезда, набрасывая на людей волчьи шкуры или опоясывая их наговоренными мочалами или ремнями. Рассказывают, что однажды во время охотничьей облавы убили трех волков, а когда стали снимать с них шкуры, то под первой нашли жениха, под второй — невесту в венчальном уборе, под третьей — музыканта со скрипкою. Если волкодлак обращен с помощью пояса, которым колдуну удалось обвязать человека на свадьбе, то он вернет себе человеческий облик не раньше, чем изотрется и лопнет чародейный пояс.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: