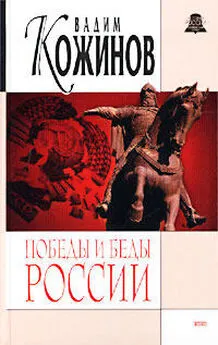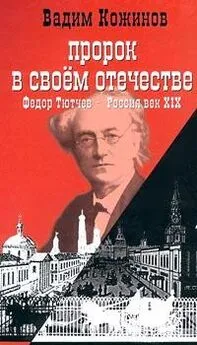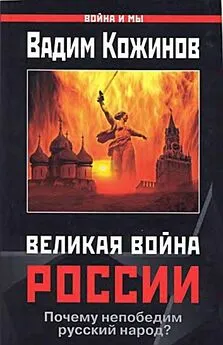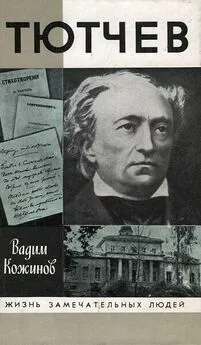Вадим Кожинов - Пророк в своем Отечестве (Ф И Тютчев и история России)
- Название:Пророк в своем Отечестве (Ф И Тютчев и история России)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Кожинов - Пророк в своем Отечестве (Ф И Тютчев и история России) краткое содержание
Пророк в своем Отечестве (Ф И Тютчев и история России) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Был день, когда Господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И собственным мечом своим заколот
В нем издыхал первосвященник сам.
Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни - дни Божьего суда
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа...
Через много лет Георгиевский, говоря о созданных поэтом в 1864 году стихах памяти Елены Денисьевой не без глубокого удивления вспоминал тютчевские "быстрые переходы от личных чувств скорби и даже отчаяния к общим интересам политическим и литературным и наоборот, и в поэтическом его творчестве почти одновременно с теми скорбными стихотворениями появлялись другие, проникнутые совсем иными настроениями... - стихи о папской энциклике".
Уехав, как мы помним, в конце августа 1864 года за границу, где он надеялся найти успокоение, Тютчев уже к началу декабря со всей остротой чувствует тоску по родине. Но в январе он тяжело заболел воспалением легких и только 26 марта 1865 года смог вернуться в Россию.
В Петербурге - что было естественно - его с новой силой пронзает память об ушедшей возлюбленной, и сразу же после приезда он создает одно из самых своих трагедийных стихотворений - "Есть и в моем страдальческом застое...".
Еще в декабре 1864 года Тютчев писал о владеющей им потребности "торопиться... туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею".
Дочь Тютчева и Елены Александровны, Елена, которой было уже около четырнадцати лет, находилась в частном пансионе; четырехлетний Федя и десятимесячный Коля жили у своей двоюродной бабки, А.Д.Денисьевой. Народное поверье, согласно которому беда не приходит одна, сбылось, и вскоре после возвращения Тютчева у Елены открылась скоротечная чахотка. 2 мая 1865 года она скончалась. На следующий день от той же болезни умер Коля. Всего год назад Тютчев каждый вечер ездил гулять на острова между Большой и Малой Невками с Еленой, которую, по словам Георгиевского, он "особенно любил и даже баловал вопреки иногда требованиям педагогики...".
Похоронив детей рядом с Еленой Александровной, Тютчев выражает свое душевное состояние в стихах, внешне сдержанных, но в которых он, пожалуй, единственный раз как бы отрицает весь мировой строй, вопрошая о том, отчего
...от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянной протест?
17 мая он пишет Георгиевскому, словно не имея сил прямо сказать о смерти детей. "Последние события переполнили меру и довели меня до совершенной бесчувственности. Я сам себя не сознаю, не понимаю..."
Тютчев упросил дочь Анну взять к себе единственного оставшегося ребенка, Федю. Позднее он писал Анне (13 октября 1870 года), что передает ей "15 200 рублей из капитала, который... предназначаю для Феди... доход с него (капитала. - В.К. ), 51/2 процентов, будет идти на содержание Феди в учебном заведении". Через неделю Тютчев пишет ей же об устройстве судьбы Феди* : "Я, покидая этот мир, буду ощущать одним уколом совести меньше".
В течение нескольких месяцев после смерти детей Тютчев был снова погружен на самое дно отчаяния. 29 июня 1865 года он писал сестре Елены Александровны: "...Не было ни одного дня, который я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить хотя ему отрубили голову и вырвали сердце".
Ранее, 30 мая, он написал ответ на посвященное ему стихотворение Полонского, опубликованное в некрасовском "Современнике":
Нет боле искр живых на голос твой приветный
Во мне глухая ночь, и нет для ней утра...
И скоро улетит - во мраке незаметный
Последний, скудный дым с потухшего костра...
Можно думать, что возвращение Тютчева к жизни совершилось во время поездки в родной Овстуг, куда он отправился 24 июля. Во всяком случае, возвратившись в сентябре в Петербург, он с присущей ему беспощадностью к себе пишет сестре Елены Александровны о своем посещении тетки покойной, Анны Дмитриевны: "...Я пил у нее чай... как во время оно. Жалкое и подлое творенье человек с его способностью все пережить".
Поездка в Овстуг в 1865 году не могла не быть впечатляющим событием для поэта. Будучи погружен в захватывающую его политическую деятельность и, кроме того, не желая расставаться с Еленой Александровной, Тютчев не был на родине восемь лет, с 1857 года (как раз в этом году он стал ближайшим сподвижником Горчакова). И месяц в Овстуге, по-видимому, сыграл целительную роль.
Дорогой, 3 августа Тютчев создает одно из высших своих творений, названное им очень просто: "Накануне годовщины 4 августа 1864 г."**. Утром он выехал из Москвы в Овстуг по Калужской дороге. По всей вероятности, вечером, пока на одной из станций перепрягали лошадей, он пошел вперед по дороге. Это было привычно для тогдашних путешественников (так часто поступал и Пушкин) - отправиться пешком после утомительных часов в коляске, которая потом догоняла путника.
Скорее всего так и было: Тютчев шел по дороге, и в такт шагам - что ясно чувствуется в ритмике стихотворения - сами собой слагались строки:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Подобно многим другим высшим созданиям поэта, перед нами не столько стихотворение о скорбном событии в жизни Тютчева - годовщине смерти Елены Денисьевой, - сколько само это событие. Стихи не рассказывают о том, что пережил Тютчев 3 августа в дороге между Москвой и Овстугом, но являют собой само это переживание как таковое. Они предстают в качестве естественной формы, органического воплощения этого переживания, а не как вторичное "отражение" чего-то, совершившегося в иной форме. И в этом тайна гениального обаяния и силы внешне "бесхитростного" стихотворения. Шаги поэта затерялись на дороге где-то между Москвой и Калугой, но событие, свершившееся там, нетленно.
В сравнении со стихами о смерти возлюбленной, созданными поэтом ранее, в ноябре 1864-го - июле 1865 года, - "О этот Юг, о, эта Ницца...", "Весь день она лежала в забытьи...", "Есть и в моем страдальческом застое...", "Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло..." и других, - в стихотворении "Накануне годовщины 4 августа 1864 г." звучит мелодия скорбного примирения.
После месяца в Овстуге Тютчев вновь весь отдается тому, что он сам определил как служение России. Откликаясь стихами в следующем, 1866 году на столетие со дня рождения Карамзина, поэт сказал, что тот умел до конца быть "верноподданным России". Когда цензура запретила это выражение (оно имело, в сущности, вызывающий смысл, так как полагалось быть верноподданным царя, а не России), Тютчев заменил его словами о том, что Карамзин умел "до конца служить России". Эта строка не понравилась Аполлону Майкову, и он предложил вариант "сыном искренним России".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: