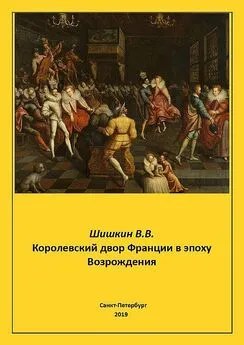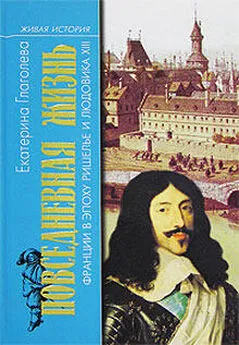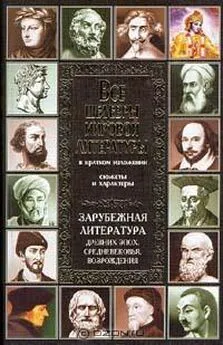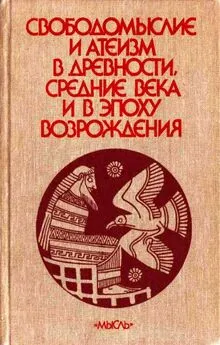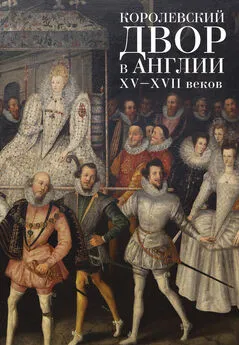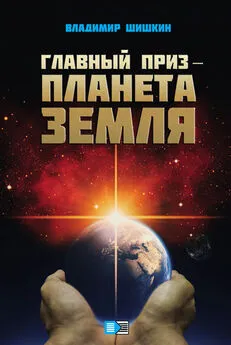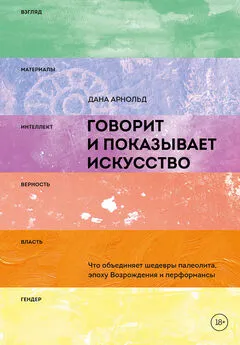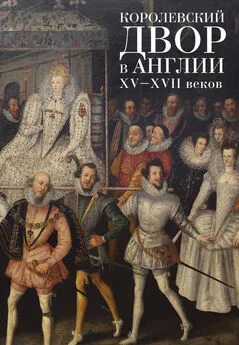Владимир Шишкин - Королевский двор Франции в эпоху Возрождения
- Название:Королевский двор Франции в эпоху Возрождения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Санкт-Петербургский государственный университет
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шишкин - Королевский двор Франции в эпоху Возрождения краткое содержание
Королевский двор Франции в эпоху Возрождения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем анналисты открыли новые методы исследования, историю социального и историю ментальностей. Именно в этом ключе выдержана работа Марка Блока «Короли-чудотворцы» (1924), посвященная исследованию сакральности королевской власти во Франции, равно как книга Люсьена Февра «Вокруг Гептамерона. Любовь священная, любовь мирская» (1944), в которой он исследовал образ мыслей королевы Наваррской и ее окружения [49] Блок М . Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Языки русской культуры, 1998; Fevre L. Autour de l'Heptaméron. Amour sacré, amour profane. Paris: Gallimard, 1944.
. В любом случае, их исследования были подхвачены во многих странах, превратив школу Анналов в международное историческое направление, и одновременно подготовили почву для положительного восприятия во Франции идей немецкого социолога Норберта Элиаса.
Появление в 1969 г. на немецком языке, а затем и переведенной на французский язык в 1974 г. книги «Придворное общество», знаменовало собой историографический поворот в истории двора [50] Элиас Н. Придворное общество. Пер. с нем. А.П. Кухтенкова, К.А. Левинсона и др. М.: Языки славянской культуры, 2002.
. По словам современного историка Тибо Трету, Н. Элиас осуществил настоящую «легитимизацию двора как объекта исторического исследования», став «отцом-основателем» куриальных исследований», поставив их в ряд иных актуальных и «продвинутых» тем, в рамках своей цивилизационной теории. «Придворное общество» очень скоро стало восприниматься как непререкаемый классический труд, а историческая социология начала претендовать на особое место среди исторических наук, провозгласив себя «новой историей» [51] Trétout Th . La Cour, objet d'histoires//Hypothèses. Vol. 12. № 1, 2009. Р. 17–26.
.
Благодаря Н. Элиасу, в конце XX в. утвердилась некая монопольная точка зрения на сущность двора, как минимум второй половины XVII в., эпохи Людовика XIV. Основываясь, главным образом, на « Мемуарах » герцога де Сен-Симона, немецкий исследователь настаивал, что « Общество двора », социальная элита Франции — придворные, являлись в значительной мере жертвами Etat moderne , монархической централизации и эволюции цивилизации нравов. Смысл их существования сводился к созданию придворных партий, борьбе за материальные блага, т. е., за право быть как можно ближе к главному источнику жизненных ресурсов — монарху. Соответственно, двор для Н. Элиаса — это объект политической истории, средство, позволившее королям Франции, манипулируя ресурсами, установить абсолютную монархию с вертикалью власти и управления.
Собственно, Н. Элиас впервые дал научное определение двора: « То, что мы обозначаем как «двор» эпохи Ancien régime, есть изначально не что иное, как чрезвычайно разросшийся дом и домохозяйство французских королей и членов их семейства со всеми принадлежащими к нему в узком или широком смысле людьми. Расходы на содержание двора, на все это громадное домохозяйство королей находятся в смете расходов всего Французского королевства под характерной рубрикой « Maisons royales » [52] Элиас Н . Придворное общество. С. 56.
.
Исследования современного нидерландского историка-компаративиста Йеруна Дуиндама, начиная с его « Мифов власти. Норберт Элиас и европейский двор раннего Нового времени » (1995), позволили поколебать сложившиеся историографические клише, привнесенные исторической социологией, и как минимум, поставить ряд важных дискуссионных вопросов. В частности, опираясь на более широкую источниковую базу, Й. Дуиндам пришел к мысли, что французский двор с точки зрения социальных связей — это, прежде всего общество компромисса, дворянства и королевской власти, где господствующее сословие отнюдь не напоминало жертву монархии. Более того, он посчитал мифом сам французский абсолютизм, сомневаясь в том, что границы монархической власти позволяли королю принимать решения, буквально следуя формуле « Ибо такова есть наша воля ». Согласно его трактовке, абсолютная монархия никогда не могла быть абсолютной ни во Франции, ни в другой европейской стране, в силу наличия и сложного расклада социальных и институциональных интересов и связей, сохранявшихся традиционных норм и установлений, взаимовлияния различных социально-политических и экономических факторов [53] Duindam J. Myths of power. Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam: Amsterdam University press, 1995. P. 192–195.
.
Кстати, изучая французский (Версальского периода) и современный ему венский дворы, Й. Дуиндам выявил много общих черт, характерных в целом для европейских дворов XVI–XVIII вв., показав, что французский двор не являл собой уникальное явление. Оба центра, и Версаль, и Хофбург/Шенбрунн, по его мнению, были организованы под воздействием церемониального и организационного наследия бургундского двора XIV–XV вв., и поэтому обладали схожими организационными и церемониальными чертами, подлежащими сравнительному анализу. Он доказал, что оба двора выполняли незаменимую функцию социальной интеграции многих общественных слоев в придворную жизнь, что делает для сегодняшних исследователей актуальными проблемы изучения формирования придворного штата разных уровней, степени вовлеченности столичного, провинциального дворянства, неблагородных слоев населения в процесс рекрутирования почетного окружения монарха, формирования обслуживающих служб, равно как исследование взаимодействия двора и органов публичного управления [54] Duindam J . Vienna and Versailles. The Courts of Europe's dynastic rivals, 1550–1780. Cambridge: Cambridge University press. 2007; Duindam J. Versailles, Vienna and beyond: changing views of household and government in Early Modern Europe//Royal courts in dynastic states and empires. A global perspective/Eds. Jeroen Duindam, Tülay Artan, Metin Kunt. Leiden-Boston: Brill, 2011. P. 402–431.
. Роль двора в связи с этим может рассматриваться значительно шире традиционных представлений о замкнутом социально-политическом институциональном пространстве для избранных персон.
Вместе с тем, исследования Н. Элиаса подтолкнули французских и в целом европейских историков к изучению двора Франции. В элиасовском определении двора была заложена как институциональная, так и социальная составляющая куриального института — то, что не может быть рассматриваемо по отдельности, и с чем были солидарны Мишель Антуан и Ролан Мунье, крупные специалисты по истории институтов Старого порядка [55] Antoine M . Les institutions françaises du XVIe au XVIIIe siècle. Perspectives de recherche II Journal des Savants. Année 1976. № 1. P. 65–78.
. В своих энциклопедических трудах они также подчеркивали важность изучения королевского двора как института, наряду с иными учреждениями Старого порядка, равно как иерархических социальных систем XVI–XVIII вв. [56] Mousnier R . Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598–1789. 2 vols. Paris; Presses universitaires de France, 1974–1980.
. В 1975 г. появилась первая обзорная работа о средневековом дворе Франции, авторства Эмманюэля Бурассена, «Двор Франции в феодальный период (987–1483). От королей-пастырей к абсолютным монархам» [57] Bourassin E . La Cour de France à l'époque féodale (987–1483). Des rois pasteurs aux monarques absolus. Paris: Perrin, 1975.
. Рассматривая организацию, структуру, повседневную и праздничную жизнь двора Капетингов и Валуа, Э. Буррасен подчеркнул две главные характеристики средневекового двора: высокую степень институционализации структурных единиц двора в сочетании с постоянными организационными и прочими изменениями в силу политических, культурных и персональных влияний. В 2001 г. английский историк Малколм Вэйл пришел к похожим выводам, показав взаимовлияние княжеских дворов Северо-Западной Европы и французского двора уже в добургундскую эпоху [58] Vale M. The Princely Court. Medieval courts and Culture in North-West Europe, 1270–1380. Oxford: Oxford University press, 2001. P. 16–17, 65–67.
.
Интервал:
Закладка: