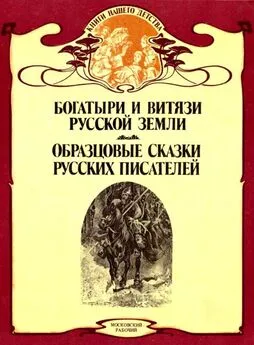Дмитрий Котышев - От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье в IX–XII вв.
- Название:От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье в IX–XII вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-08766-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Котышев - От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье в IX–XII вв. краткое содержание
От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье в IX–XII вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Примерно с того же времени в истории Вышгорода можно отметить одну очень интересную особенность — тесную связь с Вышгородом и вышгородским культом черниговских князей. Именно Святославу Ярославичу принадлежит инициатива построения в Вышгороде каменного храма; после неудачной попытки завершения Святославова проекта Всеволодом храм был все-таки построен Олегом Святославичем [785]. Событие это, завершившееся в 1111 г. [786], было неординарным. Возведенный в Вышгороде каменный храм-мавзолей был впечатляющей постройкой и своими размерами превосходил любое провинциальное строительство, по своему масштабу приближаясь к столичным соборам [787].
Видимо, не случайно киевские князья очень ревниво относились к усилению своего ближайшего пригорода, да еще под покровительством князей черниговской династии. Думаю, что нет ничего удивительного в том, что Олег Святославич «…многажды понужаше убо и моляше Святополка да быша перенесли святая мученика в създанную церковь, онъ же пакы акы зазря труды его и не хотяше ею пренести, зане не самъ бяше ее създалъ церкве тоя» [788]. Точно так же и Мономах, оказавшись на киевском столе, проявлял схожую неуступчивость — по словам агиографа, Олег и Давыд «…всегда убо глаголющема и понужающема Володимера о пренесении святою». Мономах дал согласие на перенесение мощей лишь два года спустя после вокняжения, и в 1115 г. оно состоялось [789].
Торжественная церемония перенесения мощей Бориса и Глеба в 1115 г. — без сомнения, апогей вышгородской истории. Превращение киевского пригорода в центр общерусского культа открывало перед вчерашней крепостью на Днепре довольно радужные перспективы.
Величественная и монументальная постройка Олега Святославича стала новым сакральным и общественным центром вышгородской общины. Попытка Мономаха использовать перенесение мощей для поднятия авторитета своего клана и семейства успехом не увенчалась. Как сообщает летопись, «Володимероу бо хотящю я поставити средѣ цркви и теремъ серебренъ поставити над нима а Двдъ и Олегъ хотяше та поставити я в комару идеже отць мои назнаменалъ на правой сторонѣ идеже бяста оустроенѣ комарѣ има». Спор был разрешен жребием не в пользу Мономаховых замыслов — «…и положи Володимеръ свои жребии а Двдъ и Олегъ свои жребии на стой трапезѣ и выпяся жребии Двдовъ и Олговъ и поставиша я в комару тою на деснѣи странѣ кде ныне лежита» [790].
Мономах вынужден был признать этот факт задним числом, пожертвовав храму украшения для надгробий. По словам автора «Сказания», «исковав бо сребрьныя дъски и святыя по ним издражав и позолотив, покова вор же серебръмь и золотъм, с хрустальными великыими разнизании устрой, имущь врьху по обилу злато, свтеильна позолочена, и на них свеще горяще устрой въину, и тако украси добре…» [791]. Однако, каким бы богатством ни выделялось убранство усыпальниц, по справедливому замечанию И.И. Смирнова, оно не идет ни в какое сравнение с фактом строительства каменного храма: «То, что новые драгоценности были пожертвованы Мономахом уже "по пренесении" праха Бориса и Глеба в новый храм в 1115 г., лишний раз подчеркивает чисто вынужденный характер новых даров Мономаха» [792].
Можно подытожить наблюдения относительно развития Вышгорода к началу XII в. В отличие от Белгорода, который своим ростом и политическим значением был обязан в первую очередь появлению там княжеского стола, не менее стремительный подъем Вышгорода был связан с борисо-глебским культом и превращением города в один из религиозных центров Русской земли. Понимание этого факта красноречиво выразил автор «Сказания»: «Блаженъ поистине и высок паче всехъ градъ руськыхъ и вышний градъ, имый в себе таковое сокровище. Ему же не течень ни весь Миръ, поистине Вышгородъ наречеся, выше и превыше городъ всехъ, второй Солунь яви ся в Руской земле» [793].
На этом фоне даже появление княжеского стола при Изяславе Ярославиче было, скорее всего, менее значимым фактом. В пользу такого утверждения говорит и сама судьба вышгородского княжения вплоть до 1130–1140-х гг. [794]А появление в городе сакрального центра в виде Борисоглебского собора укрепило связь вышгородской общины с династией Ольговичей. Эта устойчивая связь будет прослеживаться и далее, на протяжении середины — второй половины XII в., формируя определенный вектор развития города.
Прямой противоположностью Вышгороду становится Белгород. В предыдущих главах удалось выяснить, что, возникнув как опорный пункт поднепровской «руси» во второй половине X в., уже в эпоху Владимира и Ярослава Белгород становится одним из ключевых узлов оборонительной линии в Среднем Поднепровье и «воротами» Киева на волынском направлении.
Уже в XI в. Белгород становится значимым религиозным центром Среднего Поднепровья: в нем возникает епископская кафедра. Точной даты ее появления раннее летописание не знает, а дата, приводимая Никоновской летописью, — 992 г. [795]— вызывает обоснованные сомнения.
Первое упоминание белгородского епископа Никиты содержится в тексте «Сказания о Борисе и Глебе», где описывается перенос мощей, который состоялся в 1072 г. [796]Епископ Лука принимал участие в освящении Михайловской церкви Выдубицкого монастыря (1088 г.) [797]и Успенской церкви Печерского монастыря (1089 г.) [798]. В церковном празднике 1115 г. в Вышгороде упоминается Никита Белгородский [799].
Вероятнее всего, к XI в. относятся и остатки небольшого деревянного храма, которые были выявлены при исследовании белгородского детинца в 1968–1969 гг. [800]
Обращает на себя внимание, что в известиях 1088–1089 гг. белгородский епископ упоминается сразу после митрополита. Это дало основание Е.Е. Голубинскому предположить, что белгородский епископ выполнял роль викария митрополита, помогая ему и замещая последнего во время его отсутствия [801]. Это предположение разделяет и Я.Н. Щапов. Опираясь на сведения Константинопольского перечня русских епархий, где первой перед Новгородской епископией названа «епископия великого Белгорода», Я.Н. Щапов полагает, что «…белгородский епископ исполнял особые функции — прежде всего, управлял епархией, на территории которой находился Киев с митрополичьей кафедрой» [802].
Особое положение белгородского епископа дает основания предполагать, что уже в XI в. город выделился среди прочих пригородов Русской земли. Белгородский тысяцкий Прокопий упоминается на страницах Пространной правды в 1113 г. [803]Это упоминание представляет определенный интерес для уяснения статуса Белгорода в указанное время.
Обращает на себя внимание характер представительства на берестовском совещании, связанном с принятием «Устава» Владимира Мономаха. Это тысяцкие, то есть в первую очередь представители городской общины. В документе перечислены Ратибор — киевский тысяцкий, Прокопий — белгородский, Станислав — переяславский. Некоторые затруднения возникают с определением Иванка Чудиновича, названного «Олговым мужем» [804].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: