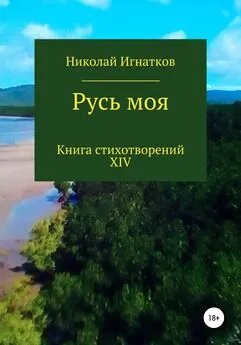Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Название:Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. краткое содержание
Уважение к трудам наставников — черта, органически присущая советской науке. Творческое наследие Е. А. Рыдзевской особенно драгоценно, ибо относится к той области науки, которая настоятельно требует глубокой разработки. Это наследие состоит из двух частей — переводы текстов скандинавских источников и научные статьи, которые тесно взаимосвязаны и служат разъяснению русско-скандинавских отношений IX–XIV вв., критическому пересмотру догм вульгарного норманизма.
Труды Е. А. Рыдзевской нужны всем, кто исследует внешнюю политику Древней Руси, ее международные и культурные связи, кто интересуется древнейшими источниками по истории нашей страны.
Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из числа рыцарей ХЭ более всего интересуется Матиасом или Маттсом Кетильмундсоном. Этот шведский феодал известен в документах с 1299 г. Впоследствии он был канцлером, главой правительства опекунов при несовершеннолетнем Магнусе Эриксоне, а в конце своей жизни (умер в 1326 г.) — шведским военачальником в западной Финляндии. Иван (имя, ничего общего не имеющее с таким же русским) и Генрих фан Кюрна — немецкие (голштинские) дворяне; Педер Порсе — датчанин по происхождению, родственник датского рыцаря Кнута Порее, авантюриста и интригана, подвизавшегося в Швеции несколько позже.
Говоря о возвращении в Ландскрону неосторожно зарвавшихся рыцарей, которые были окружены русскими и еле выбрались (автор ХЭ и тут не преминул заметить, что русским пришлось при этом очень худо), ХЭ употребляет, как и выше, любопытное лексическое заимствование из карельского говора: «домой», «восвояси» она выражает сложным финско-шведским словом, первой частью которого является финское mаja (дом, жилье). Несколько комическое впечатление производит наименование русской рати «языческим сбродом», причем через несколько строк оказывается, что этот «сброд» сиял, как солнце, блистая своим вооружением.
Эпизод с поединком — одно из проявлений романтического элемента в ХЭ. Мотив решающего поединка, очень древний и широко распространенный, встречается и в средневековой рыцарской поэзии; в ХЭ он поэтому, может быть, является литературным заимствованием, а не восходит непосредственно к устному преданию. Категорический отказ одной из сторон от такого поединка — черта, не соответствующая обычному ходу дела в эпических преданиях; в таких случаях охотник принять вызов обычно находится, хотя и не сразу (как, например, в русском летописном предании под 992 г. о борьбе русского юноши с печенегом). Если этот эпизод ХЭ навеян подлинным преданием, то возможно, что автор исказил его в ущерб русским. Русский князь введен здесь произвольно: новгородский князь пока еще не имел отношения к военным действиям против шведов. Отступление русских на этот раз от Ландскроны как будто подтверждает предположение о том, что здесь действовали одни ладожане; новгородская рать была бы больше и эффективнее.
Вынужденная остановка шведского флота по выходе из устья Невы, может быть возле острова Котлин, была использована скучавшими без «дела» Матиасом Кетильмундсоном и его соратниками для бесцельного в сущности набега на местные финские племена. Дело происходило, по-видимому, уже не в ближайшей к Ландскроне части Ижорской земли, которая, вероятно, и без того была обобрана шведами, а в более западной: ХЭ называет здесь не только Ижорскую, но и Водскую землю — Inger ok Watland ; название Inger соответствует русскому «Ижора». Никакой попытки подчинения себе этого района шведы не сделали и ограничились разрушительным набегом на беззащитную ижору и водь; автор ХЭ очень живо, образно и, бессознательно для себя, патетически очертил бедственное положение этих разоренных шведами финских племен в нескольких словах, выгодно отличающихся от тех довольно шаблонных приемов живописания, которыми он нередко пользуется.
Вместе с отплывшим осенью 1300 г. флотом отправился в Швецию и Торгильс Кнутсон. Поставленный в Ландскроне военачальник «господин Стен» известен нам как «воевода Стень» в Новгородской I летописи под 1300 г.; других сведений об этом лице не сохранилось. Основание Ландскроны, как и весь вообще поход на Неву, было, судя по свидетельству нашей летописи, предприятием большого масштаба, но, как мы видим из ХЭ, весьма плохо было организовано снабжение этой большой по размерам крепости и ее довольно многочисленного для того времени гарнизона. Что с продовольствием дело обстоит плохо, выяснилось еще летом 1300 г.; ХЭ с деловитым реализмом рассказывает об испорченных припасах — муке и солоде, о причинах и последствиях этих невзгод. Результатом бесхозяйственности были голод и цинга с большой смертностью. Положение стало критическим, когда к Ландскроне подступила сильная новгородская и суздальская рать. Русские действовали разумно и осмотрительно: сначала выступил небольшой отряд; предполагалось также заградить устье Невы посредством вбитых свай, чтобы не дать шведским судам выйти из него (военный прием, хорошо известный и на скандинавском севере во время викингов); там же, близ устья, была ловко перехвачена шведская разведка; описывая ее столкновение с русскими, автор рисует не внушающую доверия картину: беглецы то и дело выбивают из седла преследующих их всадников!
Осада Ландскроны длилась, вероятно, недолго. Непрестанный и правильно организованный натиск русских вскоре сломил то слабое сопротивление, какое мог оказать ее гарнизон. Рассказ ХЭ о падении Ландскроны довольно сходен в основном с тем более сжатым описанием, которое мы находим в Новгородской I летописи под 1301 г., вплоть до заключительных благочестивых размышлений в том и другом памятниках.
Шведов уцелело в Ландскроне, вероятно, побольше, чем говорит ХЭ; иначе русским некого было бы делить в качестве пленных и уводить с собой. Любопытно замечание о рабском труде, как об участи, ожидающей пленных: автор ХЭ, очевидно, подразумевает здесь строительные работы, в чем, может быть, отражается представление о широко развернутом новгородском строительстве того времени.
Рассказ рифмованной хроники XV в. о походе Магнуса на Новгородскую землю
Переведенный здесь отрывок, касающийся похода короля Магнуса, сына герцога Эрика (род. в 1316 г., ум. в 1376 г.), на Новгород в 1348 г., взят из рифмованной хроники, являющейся продолжением ХЭ. Она охватывает весь XIV в. и занимает место между ХЭ и следующей по времени хроникой, доходящей уже до середины XV в. Этот промежуточный текст написан, как полагают, вскоре после 1452 г. Автор его подражает ХЭ, оказавшей на него большое влияние в отношении языка и стиля, но в противоположность своему образцу он вводит в некоторых местах точные даты. Он был знаком с документальным материалом описываемого им времени и с так называемой Хроникой Висбю, которая велась на латинском языке в одном из монастырей в этом городе, пользовался также устным преданием, а в особенности для времени до 1360 г., направленным против Магнуса политическим памфлетом на латинском языке «Libellus de Magno Егісі rege».
Этим последним источником ярче всего определяется политическая тенденция рассматриваемой здесь хроники, совершенно иная, чем в ХЭ. В ХЭ, заканчивающейся избранием малолетнего Магнуса королем Швеции в 1319 г. и написанной, как полагают, не позже первых лет его самостоятельного правления, проявляется столь же сочувственное отношение к этому королю, как и раньше к его отцу Эрику и ко всей партии Эрика. Здесь же, наоборот, автор, описывая события XIV в., примыкает к оппозиции королю со стороны феодальной знати и высшего духовенства, вызванной внутренней политикой Магнуса, которая была направлена к укреплению королевской власти и ограничению привилегий светских и духовных феодалов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)