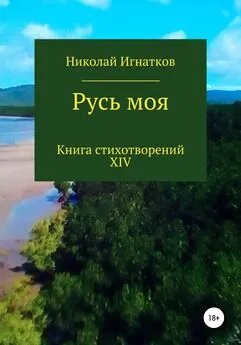Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Название:Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. краткое содержание
Уважение к трудам наставников — черта, органически присущая советской науке. Творческое наследие Е. А. Рыдзевской особенно драгоценно, ибо относится к той области науки, которая настоятельно требует глубокой разработки. Это наследие состоит из двух частей — переводы текстов скандинавских источников и научные статьи, которые тесно взаимосвязаны и служат разъяснению русско-скандинавских отношений IX–XIV вв., критическому пересмотру догм вульгарного норманизма.
Труды Е. А. Рыдзевской нужны всем, кто исследует внешнюю политику Древней Руси, ее международные и культурные связи, кто интересуется древнейшими источниками по истории нашей страны.
Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Выше я уже указывала на сомнительный с исторической точки зрения характер летописных известий о норманском происхождении Рогволода Полоцкого, если искать в этих известиях основание для того, чтобы возводить легенду о Рогнеде и Владимире к варяжскому преданию на Руси. После всего сказанного только что перевес как будто оказывается, наоборот, на стороне именно такого предположения. Но решается ли этим вопрос окончательно?
Для того чтобы рассматривать эту легенду как отражение понятий и отношений, свойственных именно скандинавскому обществу эпохи викингов, как нечто близкое и понятное прежде всего для скандинавского этнического элемента, надо доказать, что у восточных славян в данную эпоху не было и не могло быть подобных же пережитков родового строя. А это еще отнюдь не доказано тем обстоятельством, что для древнерусского общества у нас соответствующего материала несравненно меньше, чем в сагах — для эпохи викингов, что разыскивать и восстанавливать его гораздо труднее и что в нашей научной литературе еще нет специальных исследований по этому вопросу. Основной письменный источник по древнейшей русской истории, каким является наша летопись, в силу преобладающего в нем церковного миросозерцания неблагосклонно относится к женщине, затушевывает ее значение и отодвигает ее на второй план. Если учитывать стадиальную близость восточных славян и скандинавов в данную эпоху, то не оказывается никакого основания теоретически отвергать возможность, что основное содержание легенды о Рогнеде сложилось на Руси, на местной этнической и социальной почве, и как эпический сюжет пользовалось популярностью, встречало понимание и сочувствие местного населения, а не только в кругу заморских выходцев, княжеских дружинников-варягов.
Что предание о Рогнеде и Владимире в его двух вариантах, привлеченных летописцами к повествованию о междукняжеских отношениях X–XII вв., попало в летопись из княжеско-дружинной среды, вполне допустимо, но нельзя ограничивать одной этой средой происхождение самого сюжета и интерес к нему. Здесь перед нами — не только княжеское родовое предание, использованное летописцами, но и отражение отношений и понятий, имеющих значительно более широкую и более древнюю основу.
Остается еще одна подробность, а именно: удачный или неудачный исход мести. В большинстве рассматриваемых здесь сказаний преобладает первый. Летописное предание о Рогнеде и эпизод с Гудрун в саге об Олаве, сыне Трюггви, являются скорее исключением. Относительно Владимира и Олава было хорошо известно, что они в действительности не были убиты своими женами. Поэтому возможно, что не только в процессе литературной обработки, но и раньше, когда слагались устные варианты сказания о мести в брачную ночь, удачный исход мести естественно должен был отпасть. Цельность первоначальной схемы сюжета могла быть нарушена в обоих этих случаях под влиянием тех фактов из биографии героев, которые уже утвердились в народной памяти и в сознании составителей письменных источников (русской летописи и северной саги) как несомненные, как достояние истории, а не легенды.
Поскольку в настоящей главе мне пришлось коснуться Корсунской легенды, добавлю уже независимо от сказаний о Рогнеде несколько замечаний по поводу сведений о варягах, содержащихся в Житии Владимира особого состава.
Повесть временных лет, говоря об осаде Херсонеса Владимиром в 988 г., приписывает греку Анастасу содействие Владимиру, выразившееся в том, что Анастас послал ему стрелу с указаниями относительно наиболее легкого способа овладеть городом. Житие особого состава, которое Шахматов считает более ранним, чем Начальный свод, а следовательно, и чем Повесть временных лет [527], дает нам другую версию: стрелу посылает из Корсуни варяг Ждьберн, расположенный к Владимиру. Взяв город, Владимир щедро награждает Ждьберна, ставит его там своим наместником и отдает ему в жены Корсунскую княжну. Ждьберн — воевода Владимира, как и тот неизвестный нам более подробно Олег, вместе с которым он несколько позже отправляется в Царьград с поручением сосватать своему князю царевну Анну.
Каким образом очутился этот Ждьберн в Корсуни? Весьма вероятно, что он был на военной службе у греков. Если допустить, что в это время варяжские наемники в Византии еще не были объединены в особую постоянную военную организацию, состоящую при императоре, то тем более возможно было Ждьберну оказаться какими-то судьбами на положении авантюриста-одиночки; никаких товарищей его в Корсуни Житие не знает — разве что предполагать, что таковым был Олег, и видеть в нем, как и в самом Ждьберне, корсунское приобретение Владимира. Все эти предположения, конечно, гадательны, но уж если делать их, то не исключена возможность, что Ждьберн был одним из тех варягов, которые ушли из Киева в 980 г. (см. далее, гл. 9-ю), и что он в конце концов счел за благо вернуться к своему прежнему вождю, рассчитывая на большую щедрость с его стороны, чем было проявлено несколькими годами раньше, когда Владимир только что утвердился в Киеве.
Шахматов полагает, что в изложении летописи, начиная с Начального свода, Ждьберн и Олег были устранены, как сказочные лица народной песни, как былинные герои, которым не должно быть места в историческом повествовании [528]. На это можно возразить, что летопись содержит в себе немало эпического материала и не проявляет столь строгого ригоризма в различении исторического и неисторического элемента. О Ждьберне и Олеге ходили, может быть, какие-нибудь сказания, которые слишком определенно давали им неблаговидную, с христианской точки зрения, характеристику, а потому эти два лица и не годились для повествования о крещении Владимира. «Нечестие» самого Владимира до крещения — другое дело: оно входило в агиографическую программу как контраст к христианским добродетелям, проявленным им после крещения.
Перейдем теперь от гипотетических соображений к эпизоду со стрелой Ждьберна, более конкретному, несмотря на его легендарный характер. Стрела как своего рода способ связи хорошо известна у скандинавов эпохи викингов. Такова боевая, ратная, стрела, hеrоr , которую пересылали из одного округа в другой как сигнал к созыву ополчения. Тем не менее в рассказе о Ждьберне это сообщение отнюдь не имеет исключительно скандинавского характера. Стрела с письмом, пущенная из осажденного города, встречается в греческих, лонгобардских и иранских преданиях [529]. Не лишено интереса и применение ее, напоминающее то, что на современном языке называется повесткой. В русских былинах поется о Василии Буслаеве:
Стал он стрелочек поделывать,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)