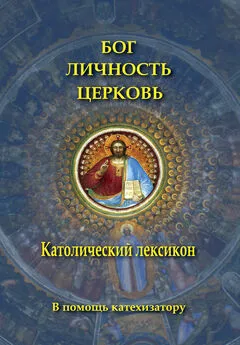Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]
- Название:Вера и личность в меняющемся обществе [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1312-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres] краткое содержание
Вера и личность в меняющемся обществе [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Даже в выражении скорби и потери он не может не оставаться желчным. Письмо мая 1720 года оплакивало смерть знакомого клирика: «Вот суета человеческих дел!.. в тот же день… скончался о. Михаил, к величайшему вашему прискорбию. Водянкою, так как был толстый, болел, 6 недель: сначала ноги опухли; потом, когда врач составил лекарство и несколько раз дал ему пить, опухоль в ногах прошла …» [234]Детальное изложение смертных мук распространяется далее на несколько предложений. И подобно запискам Вишенского, письмо круто меняет фокус, а с ним и настроение. Тут же следующий параграф описывает восхищение Прокоповича после недавнего посещения коллекций того, что станет Кунсткамерой, наполненной « всякими человеческими частями… многия редкости природы, змеи, крокодилы, монстры, и проч… » [235]. Новое каменное здание, где они были размещены, радостно сообщает Прокопович Марковичу, находится буквально в нескольких шагах от его собственной резиденции, а это означает, что он сможет часто его посещать. Прокопович, похоже, быстро забывает про скорбь. Но эта мгновенная перемена настроения не должна заставлять нас принимать одно чувство за искреннее, а другое нет, как не считаем мы этого в отношении писем, которые пишем сами. Тот факт, что противоположные эмоции сосуществовали на одной и той же странице, не является, на мой взгляд, проблематичным и гораздо менее важен для интерпретации, чем само по себе проявление эмоций.
В большей части переписки Прокопович избегал подобной прямолинейности, но Маркович не был и единственным свидетелем его взрывов чувств. Например, в 1728 году, через десять лет после своих восторгов по поводу отношений с Александром Даниловичем (о котором он сочинил в 1709 году полное лести «Похвальное слово»), Прокопович написал злорадное письмо анонимному духовному лицу об опале «с радостным известием о падении Меньшикова» [236]. Он благодарил в нем Бога за исход: «От тирании, которая благодарю Бога уже разрешилась в дым». Письмо заканчивалось стандартным дружеским и братским приветом к духовным лицам (по крайней мере, тем из них, с которыми он был на короткой ноге): «Твой искреннейший друг, брат и сослужитель».
Такого рода чувства присутствовали чаще в письмах к духовным лицам украинского происхождения. И обычно на латыни, языке, доступном тогда в России лишь горстке людей. Даже будучи перформансом, выражение и смена эмоций отражали пристрастия. В большинстве случаев Прокопович привязывал их эксплицитно к христианской проблематике греха, воздаяния и искупления. Пока мы видели у Прокоповича в основном его фирменную браваду и едкий язык, не свидетельствующий об интроспекции или ретроспективной рефлексии. Однако и эти последние в его переписке пусть нечасто, но встречались.
В длинном письме середины 1730‐х [237]митрополиту Киевскому Рафаилу Заборовскому встречается теплое воспоминание о прошлых временах в Киевской академии и в Гетманщине в общем: «Во время младых лет моих, при Головчине и Гуревиче и других ректорах все маетности братские были во владении, которые после новым рубежем польским (то eсть после 1686 года. – Г. М. ) стали отобраны. Были же времена весьма приятныя: не было войны, не было никаких армейских походов, не слыхали мы тогда …» [238]Далее Прокопович критикует упадок дисциплины в Академии, но что бросается в глаза (или бросается в глаза мне ) – это ностальгия по более счастливым временам в Киеве. Встречаются и другие подобные пассажи, и не только в письмах, где Прокопович с теплотой и ностальгией вспоминает о Киеве. Аллегорическая драма 1728 года, обычно – хотя и не единодушно – приписываемая Прокоповичу «Милость Божия Украину ‹…› возвеличившая» была написана в честь визита гетмана Апостола в Москву. И в языковых формах, и по содержанию в первых четырех актах воспевались священный Киев, Хмельницкий («второй Моисей»), Малороссия, Запорожье и казачество как самостоятельные исторические действующие лица, а не как агенты Москвы – в их совместной службе православию [239]. Поставленная в качестве школьной драмы в Киевской академии, эта пьеса в первых четырех актах представляла собой настоящий гимн непреходящей важности и священному статусу места, близко напоминая пассажи Кроковского или, в данном контексте, часто встречавшуюся у Стефана Яворского тоску по Украине. И лишь в последнем пятом акте центр повествования смещался в сторону России, Петра и объединения.
Если принять, что Прокопович на самом деле является автором «Милости Божией», стоит задаться вопросом, что он этим подразумевал – выразить ностальгию лишь для того, чтобы понравиться аудитории (перформативность) или чтобы открыть нечто о себе самом (перформанс). Полагаю, что здесь есть и то и другое. К этому времени Прокопович представлял собой чрезвычайно экспонированную и противоречивую фигуру, мишень для критики и обличений. Несмотря на его влияние, школьная драма была представлением, которое невозможно было надолго скрыть. Прокопович не был уверен в своих позициях среди все еще остававшихся в Киеве, и его могла привлекать возможность завоевать симпатии этой ограниченной аудитории. Но глаза петербургского двора были вездесущи, а первые четыре акта несли на себе ощутимый отпечаток «киевскости», который звучал как манифест.
Хотя «Милость Божию» представили в Киеве, ее эхо отдавалось в Петербурге. Ее автор понимал, что ему требовалось в обоих местах не дать выйти настроениям из-под своего контроля. Есть и много других обстоятельств – к сожалению, из‐за ограниченного объема статьи их придется опустить, – которые не позволяют объяснить привязанность Прокоповича к Киеву только расчетом. Выраженная здесь личная ностальгия должна была отражать противоречивые чувства. Однако сама манера выражения предполагает стремление передать привязанность к жизни и к месту, которое Прокопович оставил, более сильную, чем это можно было бы себе представить. В конечном итоге кажется, что личность, которая встает за этими текстами, более сомневающаяся, чем это могло казаться. Прокопович, безусловно, представлял собой исключительное, в чем-то уникальное явление: он мастерски владел языком (но не всегда управлял эмоциями), он стремился к стиранию разделений между плотью и духом, верой и земным миром. Он соединял воедино отечество, государство и империю; его натуру отличало сибаритство и нарциссизм, в своем внешнем поведении он был воинствующим фило-протестантом. Все это вместе взятое отличало его от почти всех остальных монашествующих. Но в то же время постоянная связь повседневного опыта с герменевтикой и семантикой веры заставляет заключить, что для Прокоповича, так же как и для других монахов, было существенным различать сакральное и секулярное и видеть суть бытия человека, а значит, и своего собственного, сквозь призму Священного Писания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)


![Коллектив авторов - V-Wars. Вампирские войны [сборник litres]](/books/1070767/kollektiv-avtorov-v.webp)
![Коллектив авторов - Эволюция. От Дарвина до современных теорий [litres]](/books/1072098/kollektiv-avtorov-evolyuciya-ot-darvina-do-sovremen.webp)
![Коллектив авторов - Михаил Задорнов. Аплодируем стоя [litres]](/books/1088827/kollektiv-avtorov-mihail-zadornov-aplodiruem-stoya.webp)
![Коллектив авторов - Клыки. Истории о вампирах (сборник) [litres]](/books/1094268/kollektiv-avtorov-klyki-istorii-o-vampirah-sborn.webp)