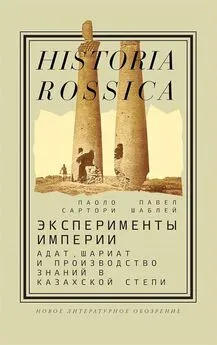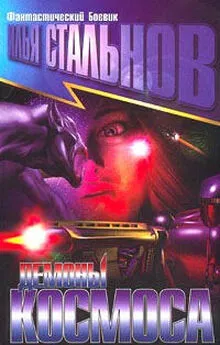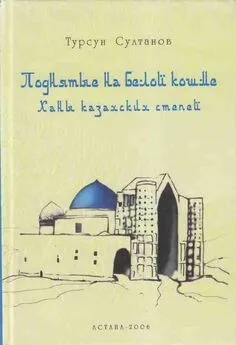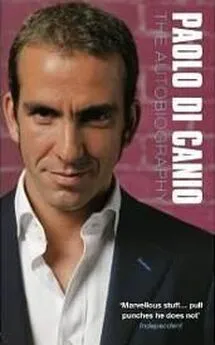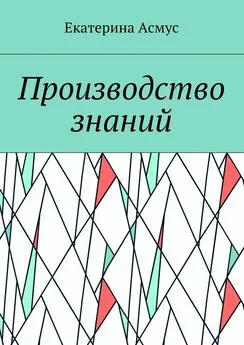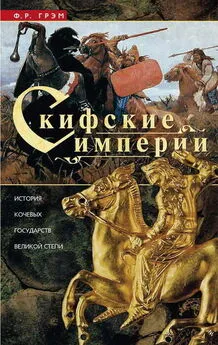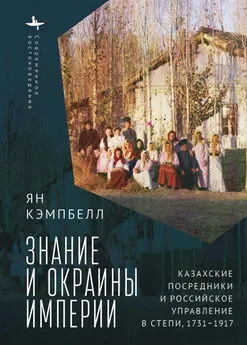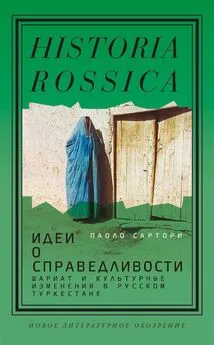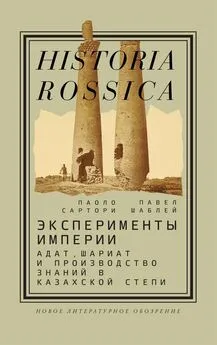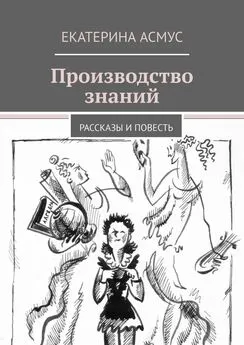Паоло Сартори - Эксперименты империи. Aдат, шариат и производство знаний в Казахской степи
- Название:Эксперименты империи. Aдат, шариат и производство знаний в Казахской степи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1329-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паоло Сартори - Эксперименты империи. Aдат, шариат и производство знаний в Казахской степи краткое содержание
Авторы книги — специалисты по истории мусульманских обществ: Павел Шаблей — доцент Костанайского филиала Челябинского государственного университета, Паоло Сартори — старший научный сотрудник Института иранистики Академии наук Австрии.
Эксперименты империи. Aдат, шариат и производство знаний в Казахской степи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Систематизировать и кодифицировать: казахское обычное право в колониальном контексте
В конце XVIII в. усиливается внимание империи к изучению обычаев и традиций подданных. Казахское обычное право становится частью этнографических описаний. Вторая академическая экспедиция (1768–1772) осуществила одну из первых попыток обобщить сведения об адате и опубликовать их наряду с другими полевыми материалами [162] Участниками этой экспедиции были известные ученые того времени: И. Г. Георги, П. С. Паллас, И. П. Фальк. См.: Масанов Э. А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР. Алма-Ата, 1966. С. 68–84.
. Этнографические работы этого времени создают представление о нескольких источниках казахского обычного права. Если указания на шариат, местные обычаи и формы социальных отношений позволяли объяснить черты симбиоза у народов, принявших ислам, то ссылка на пережиточное состояние местного права, акцент на практике естественной справедливости [163] В данном случае концепция естественной справедливости складывается на основе представлений о естественном праве; с одной стороны, оно как совершенная идеальная норма противопоставляется несовершенной действительности (так возникает миф о «благородном дикаре»), с другой — положения естественного права вытекают из самой природы и поэтому становятся неизменными. См.: Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М., 1988. С. 57.
призваны были уравнять казахское право с доисторическим правом народов, находившихся на стадии разложения первобытно-общинного строя [164] И. Г. Георги, например, считал, что «законы» у казахов основываются «частью на Алкоране (в более широком смысле на шариате. — П. Ш., П. С. ), а частью на старинном обыкновении, в особых же случаях на естественной справедливости». См.: Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. С. 122.
. Считая, что казахи — «дети природы» [165] Такая фраза встречается у Ф. И. Германа, адъютанта оренбургского военного губернатора П. К. Эссена (1817–1830). По его словам, казахи — это «грубые дети природы…» См.: Герман Ф. И. О киргизах // Вестник Европы. 1822. Ч. 122. № 3. С. 301.
, а политическая организация кочевников не способствовала образованию государства (при низком авторитете верховной власти, самоуправстве родовых правителей, отсутствии постоянной армии), русские этнографы впадали в соблазны географического детерминизма. Образ жизни, природно-климатические факторы, характер производства служили аргументами для объяснения генезиса «варварских» и «диких» норм поведения [166] Вот характерный этюд: «…грабительства их (казахов. — П. Ш., П. С. ), также жестокость и несправедливости можно сочесть паче следствиями сурового и необузданного их рода жизни…» См.: Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. С. 120.
.
К этому добавлялась и мысль о борьбе за существование, которая исключала устойчивость правовых традиций и делала привычные для европейского слуха выражения — законопослушность, правовая культура — неприемлемыми для казахского контекста. Ориенталистские темы, заполнявшие метагеографическое пространство и хитросплетения дипломатических и политических отношений, легко вторгались и в область местного права. В результате формировался обобщенный образ общества «без закона», живущего скорее прошлым, чем настоящим [167] К этой мысли возвращались и позднее. Так, Ф. И. Герман в 1821 г. писал: «Предание говорит, что Киргиз-Кайсаки, прежде нежели приобвыкли к самоуправству и насилиям, повиновались некоторым условным положениям, имевшим вид закона». См.: Герман Ф. И. О киргизах. С. 226.
. Значение традиционных правовых институтов, как и роль носителей правовых знаний (биев, аксакалов), не получили подробного описания. Интересно, что право на суд со стороны ханов, султанов и старшин признавалось более существенным явлением, чем суд биев [168] В работе И. Г. Георги мы и не находим никаких указаний на судебную власть биев. По его данным, судьями являются старшины «в Улусах, а хан в вершении тяжебных дел больше, нежели в правлении, власти» имеет. См.: Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. С. 122.
. Нет сомнений, что характер подобного описания имел тесную связь с политическим контекстом. Российские власти, для того чтобы укрепить свои позиции в регионе, пытались опереться на доверие лояльной к империи элиты. Раздавая привилегии, можно было не только контролировать ее деятельность, но и добиваться различных социально-политических и экономических выгод. Так, оренбургский военный губернатор Г. С. Волконский, желая усилить азиатскую торговлю Российской империи, предлагал в 1804 г. «суд и расправу» оставить в руках хана и ханского совета [169] См.: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. С. 187.
.
Как в этнографической литературе того времени оценивалась роль шариата? Ссылки на значение мусульманского права не носили системного характера и своей эклектичностью пытались убедить читателя, что выбор между адатом и шариатом для казахов очевиден и связан в основном с вопросами текущей политической конъюнктуры. Такое указание на связь эволюции права с конфликтом местных элит нашло отражение в современных историографических спорах, когда историки, которым представляется естественным аналитически четкое противопоставление адата и шариата, пытаются обнаружить столь же однозначное размежевание между ними в прошлом. Так, С. Л. Фукс полагал, что в конце XVIII в. адат уже был неспособен поддерживать власть ханов и султанов, поэтому казахская знать обратилась к более суровым правовым нормам, т. е. к шариату, и, игнорируя традиционные суды биев, пыталась осуществлять судебную власть в основном с помощью мусульманских духовных лиц [170] Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в. С. 132–138.
. По нашему мнению, С. Л. Фукс, основываясь на марксистско-ленинской методологии, преувеличивает значение социального расслоения в казахском обществе, связывая предполагаемый переход от адата к шариату с «обострением классовой борьбы на почве углубления феодальной эксплуатации» [171] Помимо этого, подход С. Л. Фукса игнорирует фактор вмешательства со стороны имперских властей, сводя проблему к противоборству независимых от российского влияния правовых систем, за которыми стояли определенные социальные группы казахов, находившиеся в конкуренции между собой.
. Противоположного мнения придерживается Вирджиния Мартин. Она считает, что для самих казахов противопоставление адата и шариата не являлось принципиальным и за ним не стоял некий конфликт социальных групп. Доминантная роль принадлежала именно обычному праву в силу его способности формировать комплексную сеть судебных практик, которые объединялись под общим названием «адат». Адат также больше способствовал требованиям эгалитарного кочевого общества, в силу своей доступности и ясности обеспечивая поддержание социальной стабильности и достижение консенсуса [172] Martin V. Law and Custom in the Steppe. P. 25–26.
. В то же время шариат играл второстепенную роль. Его применение ограничивалось сферой распространения мусульманской книжной культуры [173] Ibid. P. 105–106.
. Как мы увидим в следующих главах, представление об однозначной траектории развития адата или шариата у казахов является ошибочным. Это понимали не только чиновники — составители некоторых сборников, зафиксировавших правовое разнообразие, но и сами казахи, которые могли адаптироваться к колониальной ситуации и действовать с выгодой для себя, например оспаривать решения биев у русских чиновников, понимая, что последние не всегда способны к глубокому анализу местной правовой культуры.
Интервал:
Закладка: