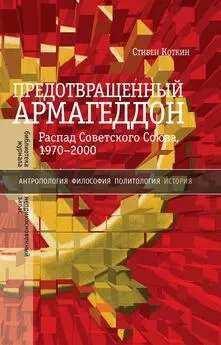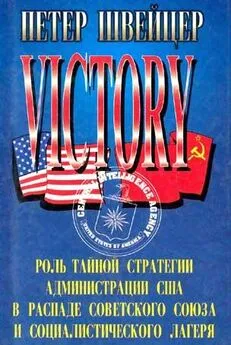Стивен Коткин - Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000
- Название:Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1049-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коткин - Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000 краткое содержание
Сконцентрировав внимание на политических элитах этих государств и на структурных трансформациях, вызвавших распад одного из них и возникновение другого, автор обращается к нескольким сюжетам. К возглавленному Горбачевым партийному поколению, сложившемуся под глубоким влиянием социалистического идеализма. К ожиданиям 285 миллионов людей, живших в пространстве реального социализма. К плановой экономике и типичному для нее институту — огромному, неэффективному и неповоротливому заводу.
Поскольку движение истории не обходится без случайностей и непредвиденных обстоятельств, книга рассказывает о конкретных попытках придерживаться того или иного политического курса, а также о неожиданных результатах таких попыток. Поскольку распад советской системы и противоречия 1990-х невозможно понять вне контекста перемен, произошедших в мире после Второй мировой войны, этот рассказ носит одновременно исторический и геополитический характер.
Перевод сделан по дополненному изданию 2008 года.
Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Примерно в это же время генсек затратил колоссальные усилия, чтобы убедить аппаратчиков всех уровней: отказ от политической реформы куда рискованнее ее самой. В 1987–1988 годах ему удалось вырвать у Политбюро согласие на «демократизацию» партии с помощью альтернативных выборов. Привыкшие к пожизненным назначениям и многочисленным привилегиям в обмен на послушное выполнение приказов сверху, партийные чиновники (даже те из них, кто сочувствовал реформам) просто не знали, как общаться с превратившимися в избирателей рядовыми членами партии. Не слишком их привлекала и навязываемая обществом личная ответственность за сталинские преступления. Наиболее смелые из них, воспринявшие призыв к «авангарду общества» возглавить перестройку, вскоре обнаружили, что в отсутствие ожидаемых экономических успехов они «возглавляют» лишь бесконечные публичные прения по поводу некогда «закрытых» проблем, вину за возникновение которых общество возлагает именно на партию. Так, на июльской партийной конференции 1988 года, пока коммунисты из среды столичной интеллигенции терзали себя спорами об истории и свободе, «делегатов из провинции волновали пустые полки магазинов, грязные реки, оставшиеся без воды больницы и заводы с разваливающимися сборочными линиями» [62] Keller B. Conference Lifts Veil on Personalities and Intrigues // New York Times. 1988. 3 July.
.
Каким-то образом Коммунистическая партия должна была стать одновременно и инструментом, и объектом перестройки. Однако на той же партийной конференции Горбачев, все еще искавший надежную политическую опору и рычаги воздействия, раскрыл свой план возрождения Советов. В 1917 году большевики пользовались при захвате власти лозунгом «Вся власть Советам!», однако эти институты, воплощавшие, подобно якобинским клубам, представление о прямой (не представительной) демократии, довольно быстро зачахли. Теперь местные Советы должны были получить новую жизнь с помощью альтернативных выборов, которые предполагалось провести одновременно с выборами в новый всесоюзный орган — Съезд народных депутатов, который, в свою очередь, должен был избирать представителей в полностью обновленный действующий парламент — Верховный Совет СССР. Этот план, формально являвшийся лишь модификацией существующего устройства, на самом деле означал конец автоматического мандата партии на власть и необходимость легитимации полномочий партийных функционеров с помощью выборов — тест, который полностью провалило подавляющее большинство действовавших партийных чиновников, выставивших свои кандидатуры на выборах депутатов Съезда в начале 1989 года. Горбачев исключил самого себя и других руководителей высшего уровня из процесса альтернативных выборов, но новая политическая конфигурация была ясна уже из того, как рассаживались депутаты Совета: все члены Политбюро за исключением Горбачева получили места не в президиуме, а в боковой галерее.
Усиление Советов сопровождалось дальнейшим закулисным ослаблением власти партийного аппарата. Прекрасно помня, что именно партийные верхи ополчились против предыдущего реформатора, Хрущева, вынудив его «уйти на пенсию» в октябре 1964-го, и, очевидно, не вполне удовлетворенный исходом «дела Нины Андреевой», Горбачев вторгся в сферу влияния Лигачева. В сентябре 1988-го, перед началом кампании по выборам Съезда народных депутатов, он начал «реорганизацию» Секретариата ЦК. Ссылаясь на необходимость улучшить его работу, Горбачев создал целый ряд отдельных партийных комиссий, каждая из которых возглавлялась членом Политбюро. Неожиданно ушли в прошлое коллективные заседания Секретариата и отправляемый им контроль за деятельностью партийных комитетов по всей стране (будь то для воздействия на ход выборов или для организации заговора против генерального секретаря). Так, по-прежнему держась за свою ленинистскую веру в потенциал партийных масс, Горбачев сознательно лишил аппарат его могущества, а всего через 15 месяцев после этого вынужден был (в декабре 1990-го) формально отменить монополию КПСС на власть. Может показаться странным, что он при этом не понял очевидного факта: усиливая государственные органы власти (Верховные советы Союза и республик) за счет партийных, он тем самым менял унитарную структуру государства на федеративную.
До 1917 года в Российской империи не было национальных республик — только неэтнические губернии. Провозглашение республик произошло после распада империи в результате революции, и хотя Красная Армия вернула контроль над большинством отделившихся территорий, сопротивление республик помешало большевикам просто упразднить их, включив в состав России. Вместо этого в декабре 1922 года и был изобретен новаторский компромисс: Союз Советских Социалистических Республик. В конце концов Союз оформился в составе 15 национальных республик, каждая из которых имела свою внешнюю государственную или административную границу, конституцию, парламент и (с 1944 года) Министерство иностранных дел. Возьмем для сравнения не менее многонациональные Соединенные Штаты. Здесь немало поляков живет в Чикаго, но никогда не существовало Иллинойской польской республики или Калифорнийской мексиканской республики. США представляют собой скорее единую «нацию наций», территориально разделенную на 50 неэтнических штатов. СССР же был «империей наций», поскольку 15 составляющих его союзных наций формально имели свою государственность. Консолидировала эту федерацию республик пирамидальная иерархия Коммунистической партии.
Что представляла собой КПСС? Она была не политической партией в западном смысле, а скорее организацией заговорщиков, стремившихся захватить власть. Большевики сделали это в 1917 году, после чего было создано революционное правительство и некоторые предлагали упразднить партию. Но она не только не была упразднена, но и успешно нашла себе место в системе власти. Это произошло во время Гражданской войны (1918–1921), когда были вновь покорены территории бывшей Российской империи, многие бывшие царские офицеры перешли на службу в Красную Армию и для контроля над этими «военспецами» была создана должность «военных комиссаров». Так во многом случайно была найдена модель для всей страны: в каждом учреждении, от школ до министерств, члены партии или комиссары действовали как гаранты лояльности и правильной «политической линии». И хотя вскоре армейские офицеры, бюрократы, учителя и инженеры перестали являть собой «пережитки царизма» и в стране выросли «красные спецы», которые сами были членами партии, параллельные партийные структуры так и не были упразднены. Напротив, партийная бюрократия росла одновременно с государственной и обе выполняли примерно одни и те же функции по управлению обществом и экономикой. Так Советский Союз приобрел две параллельные, накладывавшиеся друг на друга управленческие вертикали: партийную и государственную. Разумеется, если бы дублирующая партийная вертикаль была уничтожена, то на месте осталась бы не только центральная государственная бюрократия, но еще и добровольное объединение национальных республик, каждая из которых вполне легально могла выйти из Союза. В общем, именно КПСС, вроде бы избыточная с точки зрения государственного управления, фактически обеспечивала целостность государства. Поэтому партия и была подобна бомбе, заложенной в самой сердцевине Союза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: