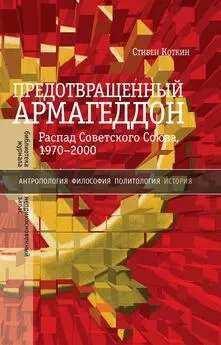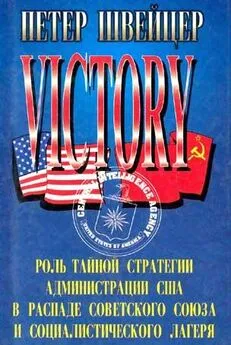Стивен Коткин - Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000
- Название:Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1049-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коткин - Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000 краткое содержание
Сконцентрировав внимание на политических элитах этих государств и на структурных трансформациях, вызвавших распад одного из них и возникновение другого, автор обращается к нескольким сюжетам. К возглавленному Горбачевым партийному поколению, сложившемуся под глубоким влиянием социалистического идеализма. К ожиданиям 285 миллионов людей, живших в пространстве реального социализма. К плановой экономике и типичному для нее институту — огромному, неэффективному и неповоротливому заводу.
Поскольку движение истории не обходится без случайностей и непредвиденных обстоятельств, книга рассказывает о конкретных попытках придерживаться того или иного политического курса, а также о неожиданных результатах таких попыток. Поскольку распад советской системы и противоречия 1990-х невозможно понять вне контекста перемен, произошедших в мире после Второй мировой войны, этот рассказ носит одновременно исторический и геополитический характер.
Перевод сделан по дополненному изданию 2008 года.
Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще до распада Союза Верховный совет РСФСР принял постановление «О концепции судебной реформы», наметившее, как привести российские законы и судебную практику в соответствие с международными нормами. «Концепция» предполагала установление судебного контроля над милицией, следователями и прокурорами, институционализацию презумпции невиновности и права не давать против себя показаний, отмену обвинительных функций судей и введение суда присяжных. Принятые в июле 1993 года изменения в прежний закон «О судоустройстве» воплотили некоторые из этих целей (например, воссоздав дореволюционные суды присяжных, введенные в качестве эксперимента в девяти из 89 российских регионов). Кроме того, Конституция 1993 года урезала юрисдикцию прокуратуры, хотя уже в 1995 году дополнения к закону «О прокуратуре в Российской Федерации» вернули ей широкие полномочия по надзору за государственной властью. И это при том, что многие прокуроры просто пропускали судебные заседания, вынуждая судей допрашивать подсудимых и превращая их тем самым из нейтральной стороны в обвинителей. Прокуроры в еще большей степени, чем судьи, имели обширные правовые полномочия, хотя и те и другие были подвержены политическому давлению и, учитывая мизерность их зарплат, коррупции [159] Smith G. B. The Struggle over the Procuracy // Solomon P. H. (ed.). Reforming Justice in Russia 1864–1996. Armonk, 1996. P. 348–373.
.
Как и на протяжении всей истории России в Новое время, некоторое количество высших чиновников, работавших в правовой области, руководствуясь представлением о России как о части Европы, продолжало продвигать идею правовой реформы. Они стремились к тому, чтобы российская судебная система соответствовала конституционному порядку и новым условиям, диктуемым развитием частной собственности. Верховный суд, существовавший с советских времен, сохранял общий контроль над всей судебной системой, и суды высших инстанций проявляли мало уважения к решениям низших судов, принимая кассационные решения даже по поводу установленных фактов [160] Fogelsong T. The Politics of Judicial Independence and the Administration of Criminal Justice in Soviet Russia, 1982–1992. Ph.D. dissertation. University of Toronto, 1995.
. В то же время советская система решения хозяйственных споров, Государственный арбитраж, была преобразована в арбитражный суд, а в соответствии с другим новшеством был создан Конституционный суд. Хотя в 1993–1994 годах его деятельность была приостановлена Ельциным, а после возобновления работы в феврале 1995 года полномочия были урезаны, этот суд продолжал нащупывать возможности для принятия авторитетных решений по поводу Основного закона страны [161] Solomon P. H. The Limits of Legal Order in Post-Soviet Russia // Post-Soviet Affairs. 1995. Vol. 11. № 2. Р. 89–114.
. Формирование этой трехчленной судебной системы сопровождалось принятием множества новых законов и ростом численности профессиональных юристов, хотя их все же было явно недостаточно, не говоря уже о качестве их подготовки. Так, несмотря на упразднение должности народных заседателей (непрофессионалов, участвовавших в деятельности судов вместе с судьями), многие из них были отобраны в качестве судей. И хотя на протяжении 1990-х годов ничтожное прежде количество российских судей выросло почти втрое — с 6 до 17 тысяч, в стране все еще приходилось по одному судье примерно на 7 сотрудников госбезопасности.
Финансирование судов, не имевшее собственной строки в бюджете, было случайным и совершенно недостаточным. Как и большинство федеральных служащих (за исключением госбезопасности), судьи были зависимы от региональной исполнительной власти в том, что касалось помещений, бытовых удобств и так далее. «Президентская» Конституция 1993 года предоставила президенту право представлять кандидатов в высшие судебные инстанции и назначать судей всех федеральных судов, но понятие «федеральный» не было определено; Ельцин трактовал его в смысле «всех судов Российской Федерации», но многие региональные руководители сами назначали местных судей и даже в одностороннем порядке перестраивали на своих территориях саму судебную систему. Планы по созданию межрегиональных федеральных судов остались нереализованными. Все это еще более увеличивало и без того бросавшуюся в глаза разобщенность российского правового пространства. Даже решения Конституционного суда не всегда легко было исполнить за пределами Москвы (или внутри Москвы, если они касались столицы). Выполнение судебных решений вообще оставалось серьезной проблемой, а борьба с организованной преступностью оправдывала предоставление сотрудникам силовых ведомств противоречивших курсу на защиту гражданских прав экстраординарных полномочий по розыску и задержанию подозреваемых. Кроме того, даже многие благие по намерениям законы были очень плохо сформулированы.
Унаследовавшая институты советских времен и столкнувшаяся с тяжелыми вызовами реальности, российская правовая реформа буксовала. Страна переживала колоссальный рост судебных дел (в середине и конце 1990-х в суды поступало в среднем около 5 миллионов гражданских и миллиона уголовных дел ежегодно). Однако многие нуждавшиеся в правовой защите граждане искали удовлетворения не в судах с их обязательными (и дорогими) адвокатами, а направляя, как в советские времена, бесплатные жалобы в местную прокуратуру или через личные связи. «Спрос» на закон не всегда удовлетворялся [162] Hendley K. Rewriting the Rules of the Game in Russia: The Neglected Issue of the Demand for Law // East European Constitutional Review. 1999. Vol. 8. № 4. Р. 89–95.
. При этом и растущее число взяток, и даже нападения на судей и здания судов парадоксальным образом демонстрировали резко увеличившуюся значимость хилой и осажденной со всех сторон правовой системы. И хотя закон в России, оставаясь источником непредсказуемости, так и не стал работать как набор универсальных и последовательно применяемых норм, неизбежны были новые попытки осуществить правовую реформу, обусловленные отчасти интересами бизнеса, а отчасти прагматичным желанием увеличить конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке.
Институциональная каша
Поборники «реформ» внутри и вне России, именуя себя не иначе как «демократами», а своих противников — «коммунистами», тем самым затемняли важнейший из аспектов того, что произошло с остатками советского государства. Распад СССР не сопровождался массовым исходом прежних функционеров из зданий, в которых располагались государственные органы коммунистической эпохи. Наоборот, все эти здания были по-прежнему плотно населены прежними чиновниками, а многие учреждения получили дополнительные обширные площади. Распад благополучно пережили не только огромное количество государственных служащих, но и существовавшие десятилетиями управленческие практики и многие государственные институты. И подобно тому, как причины и обстоятельства краха коммунистической системы предопределили формы постсоветской реальности, чиновники и институты советской эпохи, как жуткие «пережитки прошлого», определяли размах и темп любых реформ. Разумеется, в 1990-х создавались и многочисленные новые институты. Но даже укомплектованные служащими, не имевшими или почти не имевшими отношения к компартии или советскому государству, новые исполнительные органы несли на себе неизгладимую печать коммунистической и даже царской эпохи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: