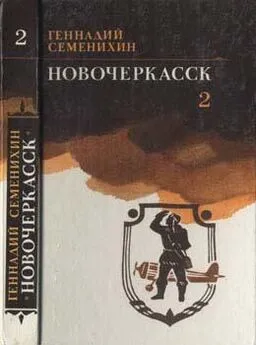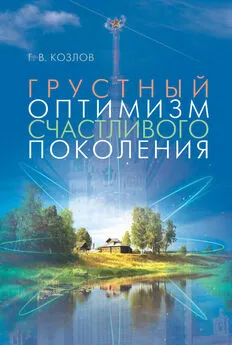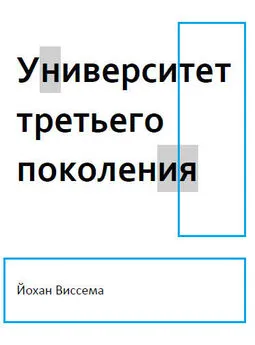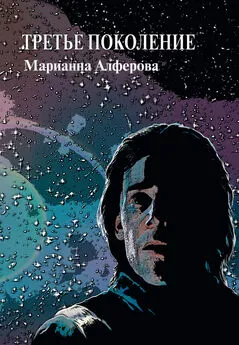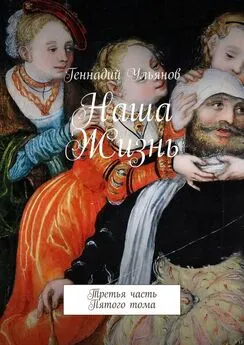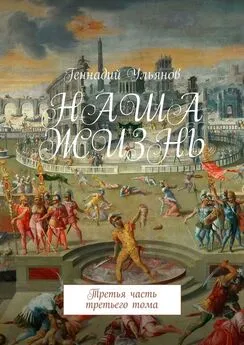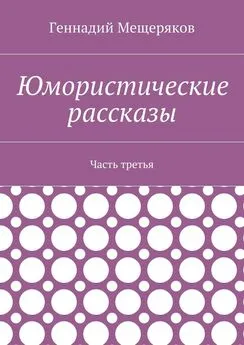Геннадий Веревкин - Заметки краеведа в третьем поколении
- Название:Заметки краеведа в третьем поколении
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:www.dariknigi.ru
- Год:2019
- ISBN:978-5-6043683-0-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Веревкин - Заметки краеведа в третьем поколении краткое содержание
Заметки краеведа в третьем поколении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Музейщикам книга понравилась, мне тоже. Заголовок немного не правильный, следовало бы назвать «Старина Усольская», так как действие в предреволюционные годы происходит в Усолье Оханского уезда. Книга художественная. Не на все вопросы ответила, но удовлетворила мой интерес о южном Усолье.
Немного о писателе. А. П. Колчанов родился в Перми в 1899 году, работал железнодорожником. Первую книгу «Голодные мужики» выпустил в 1959 году в возрасте 60 лет, вторую «Старина Оханская» — в 1962 г.
Его мать была родом из деревни Усолье Острожной волости Оханского уезда, и хотя много лет прожила в Перми, но очень хорошо помнила и знала оханскую деревню и рассказала сыну о деревенской жизни. Дополняла ее рассказы бабушка. Все рассказы А. П. Колчанов и положил в основу книги, съездив на место, и описал пейзаж и вид деревни Усолье.
Приводим несколько цитат из книги.
«Деревня Усолье разместилась на пологом склоне большого угора. Выше и ниже по склону тянулись поля, засеянные в большинстве рожью и овсом, меньше — пшеницей, льном и коноплей, а от подножья его до Очер-реки раскинулись покосы. С других сторон окружали Усолье тоже угоры с пастбищами и лесами. На этих пастбищах сытно кормилась животина только тех поселян, кто в силах был нести за то особый оброк. В лесах росло много пищи бедняков: грибов, ягод, а по опушкам — пестиков.
У каждой деревни своя речка течет, и под крутым обрывом Усолья журчала Тулубаиха, в которой, опять же на потребу бедноте, в обилии водились вьюны. И кто не знал здешней жизни глубже, с первого взгляда на окрестности восклицал: — Экое благодатное местечко! Живи да радуйся!
А на самом деле поля, луга, пастбища и леса эти в большинстве своем были графские, казенных — мало, еще того меньше общественных. Из последних наделялось на мужскую душу пахотной земли по одной полосе, едва в пол-десятины. А лесу для надела давно не росло.
Посреди единственной улицы Усолья выдался на дорогу пожарный сарай. Перед домами и избами росли тополя, рябины, черемухи, сирени, акации. Соседние заборы, сливались под один, поросли и облепились малинником, крыжовником, вербами, крапивой, лопухами и репейником.
Из-за столь густой зелени все пристройки казались приземистыми, уютными. Сама улица оделась полянкой, на которой гуляла мелкая скотинка и разная птица».
Деревня похожа на наши деревни, только юг области наложил кое-какие отличия.
«Чтобы добыть хлеба, мужики, бабы, парни и девки бегали косить и страдовать в Сиву, в Карагай и Большую Соснову, уходили на заводы, на лесоповал. В остальное время они делали грабли, бондарили, плели лапти, вязали, ткали, шили, нанимались в прислуги — извивались всяко». Ближайшая медицинская помощь оказывалась фельдшером в Оханске. Далее в книге излагается жизнь героев в отхожих промыслах. «У сотни с лишним семей было всего четыре фамилии — позабытое родство» , это относится и к нашим деревням.
Была в деревне баба знахарка, да три колдуна — в наших деревнях они тоже водились.
Так что это Усолье очень похоже на деревни нашего Усольского района и мало на сам город Усолье.
Об истории Усолья южного из книги узнать почти ничего нельзя, почему названо Усольем, соли на юге области не добывали, владелец — граф Строганов переселил людей из Усолья нашего, об этом есть намек в книге: «Давно когда-то местное население выкорчевало лес и коренья на графских угодьях, сделало их пригодными под посев, пришли на пустое место, раскорчевывали». И о том, была ли какая-то промышленность, — ни слова. Автора книги эти вопросы не интересовали, и Усолье выбрал он как деревню своей матери. Но Строгановы, переселив людей с севера на юг, каких-то родственников оставили на месте, и родственные связи между двумя Усольями существовали, но за два столетия прервались. И все же Усолье Оханское — младшее дитя нашего Усолья.
Писатель А. П. Колчанов умер в 1965 году, в этом году ему исполнилось бы 100 лет.
Священная роща
Насыщаются древа Господа,
кедры Ливанские, которые Он насадил.
Псалом 103, 16Гостеприимные древние кедры
Благоухают смолою целебной.
КалидасаВ декабре 1960 года я впервые ехал в село Берёзовку Усольского района. До 1918 года Берёзовка входила в Соликамский уезд, была связана с Соликамском хорошей дорогой через Касиб, а в Усолье вела лишь просёлочная. Весной, летом, осенью из Берёзовки в Усолье ездили через Соликамск и Березники, и берёзовцы всегда тяготели больше к Соликамску. Хорошую дорогу на Усолье провели лишь в 1980 г. И мой рассказ о Берёзовке будет как о Соликамском селе.
Ехали мы на лошадях, по старой дороге, от Усолья 60 километров вглубь лесов, с ночёвкой в селе Ощепково. На исходе второго дня лошадь остановилась на высокой горе, спутник махнул рукой: «Вот и Берёзовка, до неё ещё семь километров». Видны были белые здания животноводческого хозяйства, а левее над ровной полосой леса возвышалось что-то тёмное, полукруглое, огромная масса. Я спросил: «А там что такое?» Спутник ответил: «Березовский кедр».
В самой Берёзовке дерево поразило меня. Кедров я видел много, но такого огромного — никогда, ствол могли обхватить три или четыре человека, высота около восьмидесяти метров. Видно было, что дерево очень древнее. Кедр каким-то мистическим образом переносил в другую сферу существования, в другое измерение, казался мне чем-то существующим вне нашего времени, вне привычных понятий. С первых моментов, как я его увидел, этот исполин наложил свой отпечаток, и память о нём не стирается всю жизнь. Чувство, которое он рождал во мне, трудно передать другим. Благоговейность, тишина — вот его ореол. Дерево потрясало не только своей немыслимой высотой и не только цветом коры, меняющимся на глазах. Кедр был не такой, как все известные мне деревья, он был посланец иных времён. Я еще ничего о нём не знал, но чувствовал это.
Примерно в ста метрах на юго-восток от берега речки Сырьи полукругом росло ещё несколько кедров меньшей величины и возраста, но тоже старых. Они образовывали правильный полукруг, если мысленно его продолжить дальше, то получился бы полный круг, так как в селе у некоторых домов росли отдельные кедры, которые в этот круг вписывались.
К знаменитому ливанскому кедру наши кедры никакого отношения не имеют. Их правильное название — кедровая сосна сибирская, но далее я буду называть её просто привычным именем — кедр. Он распространён по всей Сибири, у нас самая западная граница его ареала, к югу его нет, на запад несколько десятков километров он растёт, на северо-запад до слияния Сухоны, Вычегды и Северной Двины.
Название пошло от казаков Ермака. Придя на Урал, увидев эти деревья, они вспомнили Священное Писание, где о кедрах говорится много. Из кедра были дома царей Соломона и Давида, Иерусалимский храм. Двор храма был огорожен брёвнами кедра, пол притвора, где судил царь Соломон, был из кедровых досок. В главе 31-й Книги пророка Иезекииля кедру посвящено семь стихов: «…Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод…» . Говорится о кедрах и в нескольких псалмах. Казаки Ермака и назвали дерево кедром. Первое упоминание о нём в одной из сибирских летописей — «Синодике» Киприана: «…растмху деревья различные: кедры и певга и прочая; в них же жительств имеют зверие различное». Кстати, коми-пермяки и местные деревенские жители употребляют слово только в женском роде: называют отдельное дерево — кедра. Русские, осваивая Сибирь и Урал, создавали поселения у кедровников, растущих по берегам рек. У нас в Соликамском и Усольском районах есть несколько таких деревень.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: